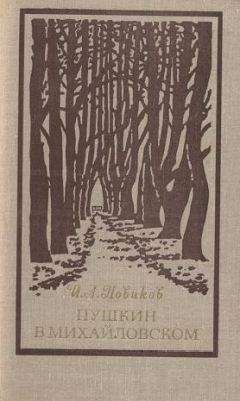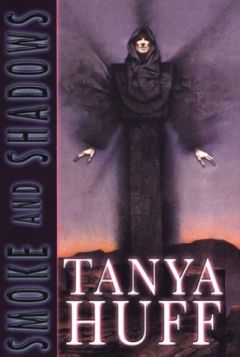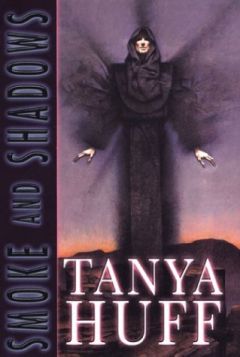Ознакомительная версия.
— Это Родзянки село?
Три украинца в ответ кивнули согласно. Долго глядели они вослед этому странному всаднику.
— Экой цыган, гляди, озорной!
— Никакой и не цыган — венгерец!
Спорили крепко, пока самый старый не снял высокую шапку.
— А копыт не видал у цыгана? Желтых, паленых?
Тут он осенил себя трижды крестом, а спорщики смолкли: «Вот оно что! Знать, спознал старый Тарас и взаправду чертяку!»
Родзянко его увидал из окна и был восхищен. Он замахал, перегнувшись, длинным своим чубуком и закричал:
— Пушкин! Откуда?
В подъезде, куда он тотчас побежал, приветствовал и иначе:
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный!
Пушкин узнал свой «Бахчисарайский фонтан» и рассмеялся. Они обнялись, как если бы натянутости меж ними и не бывало.
— Порфирий! Порфирий! — звал брата Родзянко. — Иди погляди-ка на Пушкина; больше, пожалуй, и не увидишь! Да слушай, сооруди там на скорую руку… Наш пленник кавказский торопится.
Вино перемежалось стихами. Аркадий Родзянко прочел три отрывка из поэмы своей, называвшейся «Чупка».
Название это Пушкина весьма насмешило. Почитал для Родзянки и сам. Порфирий весь завтрак безмолвно следил, как во рту дивного гостя исчезали ломтики холодного ростбифа и как из уст вылетали крылатые строки.
Вспомнили и Петербург, знакомых актрис, «Зеленую лампу»: субботы у Всеволожского.
— Никите писал. Всеволожскому. Я проиграл ему как-то тетрадь со стихами. Хочу воротить.
— Будешь печатать? Книжица лирики! Вот мы ее тут почитаем с Анной Петровной! — И хозяин чуть с хитрецой подмигнул.
— С какой еще Анной Петровной?
Братец Порфирий открыл было рот, чтобы ответить про Анну Петровну, но Аркадий Родзянко взглянул на него носорогом:
— Порфирий, не ври!
Пушкин весело рассмеялся и больше не спрашивал. Он начал рассказывать, как однажды в великую пятницу он протрезвлял Всеволожского и повел его в церковь: богу молиться, а кстати чтоб поглядел и на свою танцовщицу…
Разговор теперь принял игривый оттенок, и Анна Петровна так до поры и осталась для Пушкина тайной.
Путь до Родзянки оказался длиннее, чем говорили на станции, и Пушкин пробыл у него всего с полчаса.
На прощанье Порфирий его насмешил, а отчасти и тронул:
— Братец сказали, что я никогда вас не увижу. Позвольте вас крепко поцеловать.
Болтали с Родзянкой, а как далеко Петербург! И как недоступен! Он очень хотел бы прямо вернуться туда, но все же, пожалуй, сначала заехал бы по пути в Михайловское. Пожить там одну погожую осень, надышаться лесами, деревней, кончить «Цыган».
Он знал, что родные в Михайловском, и предвкушал эту встречу. Он без родителей никак не скучал. Почему? Для него это было понятно как-то само собою, без дальних рассуждений, и ощущение далекости этой не тяготило его. Так повелось. Он очень ценил предков и род, невзирая на то, что там было достаточно мрачно. Пушкин и Ганнибалов носил в крови. Но то были прадеды, и были они — фигуры! Родителей же воспринимал, хоть и живы, неярко. Ярким было, пожалуй, одно раздражение: не столько на скупость отца, очень, однако, чувствительную, сколько на пустоту его бытия, прикрытую призрачным блеском. Мать он любил, но и эта любовь была пятнами, перемежавшимися настороженностью, холодностью: мать была в стане отца, и оба они не ощущались как предки.
Когда-то дружил с сестрой, вместе играли и представляли комедии, которые он сочинял по-французски. Но уж слишком стремительно Оленьку он обогнал, а с другой стороны, столь же быстро сестра обогнала в своем роде и брата: он все еще оставался подростком, когда она уже выросла светскою барышней; самое слово «сестра» как-то поблекло и выцвело. Другое дело был Лев: этот был хоть и мальчишка, но полноценный брат! Тут не было вовсе противоречий, он был живой и смышленый, талантливый. И он был мальчик, то, что называется «свой брат», младший товарищ, и Пушкин со Львом очень дружил, «дружба» же — это высокое слово.
Левушку, правда, любили и дома, его баловали, талантам его никто не завидовал, но Пушкин не ревновал и не отбивал, он только тревожился, как бы в разлуке не отдалили там мальчугана от брата-изгнанника.
Со Львом в пансионе вышла история. Пушкин о ней знал только по письмам, еще в Кишиневе. Его исключили за «бунт», поднятый им в защиту учителя русской словесности — все того же нелепого и милого Кюхли. Пушкину живо тогда припоминались собственные его лицейские истории с «иезуитом» Пилецким, который учил надзирателей читать у воспитанников в глазах… И как из Лицея они его выдворили! И было приятно, что Левушка выступил так благородно, но все же с тех пор он болтался без дела, подлинным недорослем. Как-то теперь пойдет его воспитание, когда он предоставлен одним обстоятельствам да самому себе… Пушкин писал тогда Дельвигу, близкому другу: «Я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца, — в этом найдут выгоду. Но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови». И писал самому брату Льву — не как Оленьке, про ее любимых собачек, а как младшему взрослому, наставлял и журил. Так и теперь, задумываясь о предстоящем свидании, он прежде всего хотел бы представить себе, как выглядит Лев.
И случилось так кстати, что в Чернигове встретился с однокашником брата, начинающим поэтом Андрюшею Подолинским. Это было приятно!
Встреча произошла довольно забавно.
Семнадцатилетний мальчик, ехавший в Киев по окончании пансиона, в мундире еще, одинаковом с лицейским мундиром, увидел из залы гостиницы, как возле стойки в буфете ходит взад и вперед какой-то чудной человек, похожий на полового. На нем были желтые нанковые шаровары, сдвинутые у пояса набок, цветная рубаха — измятая, подвязанная вытертым черным шейным платком. Сам же Андрюша был розовый, чистенький, только что выспавшийся, немного по-детски надменный. Он с интересом и недоумением глядел па незнакомца и был весьма удивлен, когда тот подошел и обратился к нему очень запросто:
— Вы из Царскосельского лицея?
— Нет.
— Значит, из пансиона. Так вы были там с моим братом?
Юноша был очень сконфужен, вся важность слетела с него, он растерялся и только спросил:
— А с кем я имею честь?..
— Я Пушкин.
У Подолинского глаза заблистали: в этом имени было нечто магическое для молодежи. Александр Сергеевич добродушно взял мальчика под руку.
— Пьете? Не пьете?
Закрасневшись, стыдясь, юноша робко признался в своей непреодоленной еще трезвости.
— Не пьете? Неважно. Ну, как же там львы бушевали? Вы знали и Кюхельбекера? Правда, смешной?
Подолинский вступил в пансион уже после ухода Льва, но история эта наделала шуму, и Пушкин впервые теперь слушал ее из живых уст. Это было, конечно, и очень ребячливо: тушили свечи, шаркали и шумели, выкрикивали. Но это же было и освежительно, и истинно благородно.
— И еще мне говорили, что он даже побил одного из надзирателей.
Пушкин смеялся.
Так они долго болтали. Пушкин был как всегда, не только не чинился он и не важничал, но можно было подумать, что они совсем ровня. У Подолинского же порой замирало сердце. С тайным волнением признался он Пушкину, что пишет стихи.
— Когда будет книжка, пришлите мне!
Перед отъездом Пушкин развернул свою подорожную:
— Укрощение мое не вовсе закончено. Вот поглядите! — В подорожной стояли все города по пути. — Как урок географии. И половину, пожалуй, уж выучил. Только вот Киев мне запрещен.
— А я как раз в Киев, к родным!
— Раевских вы знаете?
— Как же!
— Я дам вам записку к генералу Раевскому.
И тотчас же наскоро стал набрасывать весть о себе.
Он сжато и горячо, не переводя ничего на слова, опять и опять ощутил, как вся эта семья была для него незабвенна. Но он не давал себе воли. Он написал очень коротко. Ему только хотелось, чтобы друзья его знали о том, как судьба его переменилась.
Андрей Подолинский издали глядел на него и видел теперь совсем другого человека перед собою. Как мог он допустить хоть на минуту, что это был половой? И не был он также тем милым простым собеседником, каким был минуту назад. И странный дорожный костюм его теперь не мешал, чем-то он шел к поэту в дороге. Вот он у стойки что-то писал, простую записку. Но пишущий Пушкин был очень серьезен. Он на минуту забыл о других и был только самим собою.
Вот кончил писать, перечитал и спросил себе свечку, сургуч. Рассеянно тронул он палец, но перстня-печати не оказалось, он был в ларце.
— Возьмите, — сказал Подолинский, — те же инициалы: А. П.
Пушкин взял у Андрюши печать и стал писать адрес. Он капал сургуч с высоты и дул на огонь на бумаге.
В комнате были теперь и другие проезжие, шел разговор. «Как не похож он ни на кого», — думал Андрюша, не отрываясь взглядом от Пушкина.
Ознакомительная версия.