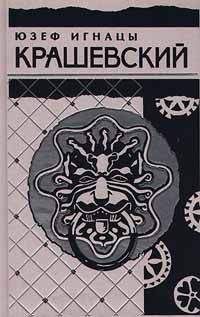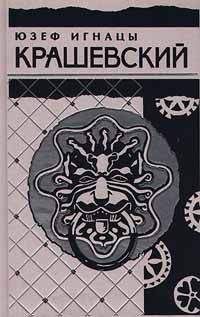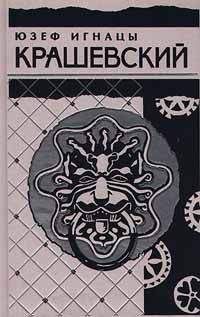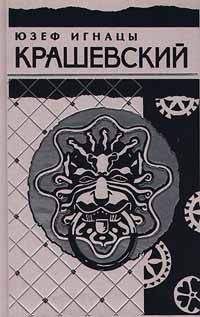С ружьем на плече шел он тихонько в лес. День был праздничный, он встречал много народу, идущего по грибы и по ягоды; далеко уже в лесу раздавалось пение и аукание. С беспокойством озирался Тадеуш: между мелькавшими, как тени, фигурами искал он Уляну. Кто знает, не с этой ли мыслью вышел он из дому? Он желал встретить ее, хоть и не сознавался в этом даже самому себе.
Размышляя и идя куда ноги несут, забрался он в густую чащу, за которой было болото и старая вековая могила, у которой он привык отдыхать. Машинально и барин и собака пробирались тропинкой, ими же самими, вероятно, протоптанной, к могиле двух братии. Так называли ее крестьяне.
Окружали ее густая чаща орешника и зарослей; никто, кроме охотников, не ходил туда, да и те заглядывали туда редко, потому что надо сделать порядочный круг или брести по кочковатому болоту, чтобы дойти до пригорка, где насыпана была эта могила. Народное предание говорило, что там, при рубке сосны, убились два брата. Место это считалось страшным и проклятым; никто не забирался туда, никто не ходил, боязливые обходили его даже крестясь, и хотя есть повсеместный обычай бросать ветки на такие могилы, здесь их не было, — некому было их бросать.
Разные сказки рассказывались на вечерницах об этом месте; все, однако же, сходились в том, что место это было заклятое и несчастливое. Некоторые даже прибавляли, что один из братьев любил жену своего брата и жил с нею, а другой видел это и молчал, потому что боялся и вероломной жены, и злого брата, и Бог за то покарал их. Иные говорили, что братьев убило сосной в воскресенье, иные, что брат убил брата, и убийцу привалило сосной, но все повторяли, что место это было облито неотмщенной кровью и проклято.
Пробираясь к этой могиле, Тадеуш с каким-то страхом оглядывался, не покажутся ли где-нибудь тени убитых братьев, о которых слышал еще от своей няньки. Собака его бежала по тропинке, нюхала, кидалась в стороны, поднимала голову, лаяла, ворчала и останавливалась. Это удивляло Тадеуша, который толковал себе беспокойство собаки тем, что кто-нибудь, сбирая грибы, попал сюда, может быть заблудившись.
Наконец, выбрался он из густого леса и, пройдя несколько шагов по окраине мокрой лужайки, приблизился к могиле и поднял голову. Наверху — о, чудо! — сидела Уляна. На колени опиралась ее рука, на руку голова; плечом прислонилась она к дереву, глаза глядели куда-то далеко, за лес и за горы.
— Опять она! — воскликнул, останавливаясь, Тадеуш. — Ты тут? — прибавил он громко.
Уляна вскочила.
— А, — вскрикнула она, — я думала, по крайней мере, что здесь не найдете вы меня!
Она хотела убежать; собака бросилась за нею. Испуганная она остановилась, и Тадеуш подошел к ней.
— Чего же ты бежишь? — сказал он тихо, притворяясь равнодушно спокойным. — По крайней мере, здесь тебе нечего бояться.
— Вас, барин, — ответила она поспешно.
— Я, Уляна, не мужик, не дворовый, я ни бить тебя, ни делать тебе насилия не думаю.
— Нет? — спросила она языком и глазами. — Точно нет?
— О, нет, — ответил Тадеуш; — если я люблю тебя, то не так, как они.
Она стала смелее.
— И не так, как твой муж, а так, как никто еще тебя не любил. О такой любви ты даже и не слыхивала.
— А потом что же бы было? — спросила она тихим голосом, играя концом фартука и взглянув на него боязливо.
— Ничего. Я любил бы тебя долго, всегда, до смерти.
— О, я ведь знаю, что в такой любви смерть должна быть в конце, смерть непременно.
— Но кто же думает о смерти?
— Разве я не знаю? Сколько раз ни слышала я в песнях и сказках о такой любви, всегда были там в конце могила да смерть.
— Не верь этому, Уляна; можно любить и не умереть от этого. Говоря это, Тадеуш, который уже стоял подле нее, полунасильно
посадил ее подле себя и обнял. Она так задумалась, что почти забыла обороняться, ничего не говорила, но когда он придвинулся, чтобы поцеловать ее, она отшатнулась и хотела встать.
— Не бойся же, — сказал Тадеуш, — позволь мне хоть поглядеть на тебя.
С смешною детскою доверчивостью Уляна подняла на него свои чудные глаза и так смотрела, что Тадеуш не знал, в самом ли деле это взгляд простой женщины. Взгляд этот, казалось, говорил так много и такие дивные вещи, выражал столько неземных тайн, столько обещал счастья, столько заключал в себе надежд на будущее.
Встречал ли то из вас такой чудный взор, при простой сермяге, в женщине, которая только по одному взгляду была ангелом, а остальною частью души и тела — кухаркою? Не ужасное ли мучение смотреть на этот дар Божий, свидетельствующий о прекрасной душе, которой нет, на этот взор, говорящий столько прекрасных вещей, которых не сможет повторить язык. Такая женщина — страшное уродство, и таких женщин сотни, тысячи, миллионы. Свет души проглядывает всегда в глазах, и когда человек затушил ее в себе уже жизнью животного, остаток отражается в его глазах… И глаза говорят, обещают, поют, лгут, когда на дне души пропасть или пустыня.
— О, Уляна моя, — сказал он ей тихо, очарованный ее взглядом, — той любви, о которой ты слышала, этой сладкой любви, довольно видеть любимую особу, довольно коснуться ее руки, довольно коснуться ее уст.
Уляна, чувствуя, как он взял ее за руку, в замешательстве взглянула на него с улыбкой. В этом взгляде был испуг и почти уступка, но уступка из страха, без размышлений. Тадеуш заметил это и опустил руку, до которой только что дотронулся, и уставил на нее глаза. Прикосновение жесткой мозолистой руки, которая не умела задрожать, могло бы разочаровать его. Она уже опустила глаза, почувствовала, несмотря на свою простоту, сколько было в его взгляде страстного, страшного, какая буря бушевала под его улыбкой.
— Хочешь ты так любить меня? — спросил он через минуту.
— Я? О, барин, разве это возможно? Я бедная; но…
— Но, что же?
— Можно сказать откровенно?
— Откровенно, и как можно откровеннее.
— Откровенно… Я не знаю, — ответила она, закрывая глаза, — вы меня околдовали, со мной делается что-то, чего не было никогда в жизни. Кажется мне, что я пробуждаюсь, что меня когда-то давно любил кто-то точно так же, что я не жена Гончара. Жена Гончара! — повторила она, вздыхая. — Бедная я! Крест на мне… С двумя детьми… Из бедной избы… И разве бы вы могли полюбить такую ничтожную? А муж?..
— О, тут совсем другое… — сказал Тадеуш с принужденной улыбкой.
— Другое?.. И такая любовь не грех? — спросила она наивно.
— О, конечно, не грех. Так будешь любить меня, Уляна?
— Как знать, как знать? Со мной делается только что-то непонятное, как-то грустно, приятно, страшно; я уже боюсь, чтобы вы меня не бросили… Страшно подумать о завтрашнем дне. Да и вас самих мне что-то страшно.
— Чего же меня тебе бояться? Я тебя так люблю.
— А, барин, эта любовь на час только. Я знаю, я слышала, что вы не можете любить простую, как я, женщину. Не сегодня, завтра, вы бросили бы меня. Разве я умею то, что вы умеете, разве я так хорошо одета, как ваши барыни, как жена управляющего, как попадья, поповна? О, они красивы, а я… Нет, нет, это невозможно! Чтобы любить друг друга надо быть равными… Я мужичка… я гадкая… и не пойму вас, как ваша барыня…
— Ты сто раз красивее в этой свитке, Уляна. Не бойся этого: отдали бы они все свои наряды за одни твои глаза. И зачем бы лгать мне, если бы я тебя не любил?
— Почему же нет? Господам это позволено: позабавиться и бросить.
— Не мне сделать это, — не мне обмануть тебя! О, нет, — возразил Тадеуш, которого уединение, взгляд этой женщины и даже ее речь воспламеняли все больше и больше. — Ты меня не знаешь, но я не шучу, а слово мое стоит клятвы.
— Если вы могли подумать, что я пущу вас ночью в избу, отчего не подумать вам, что меня можно соблазнить и обмануть?
— Я тебя тогда не знал, Уляна, не знал, кто ты; теперь только узнал тебя.
Уляна вздохнула.
— Да и на что все это, на что нам? Зачем вы увидали меня и пристали ко мне? Это верно на мое несчастие. Крест на мне. А муж, а люди. Кто же этого не заметит?
– ^0, об этом не беспокойся, Уляна, — воскликнул обрадованный Тадеуш, придвигаясь к ней и прижимая ее к себе, — не бойся… я защищу тебя, я…
Он хотел говорить, но Уляна вырвалась и вдруг, как молния, не оглядываясь, побежала в лес; и пока Тадеуш встал, было уже поздно догонять; свитка ее исчезла в густых кустах, окружающих могилу.
Он стоял на могиле.
— Что это? — говорил он сам себе, опершись на ружье и уставив глаза в землю. — Что это? Чем кончится? Нежели это любовь — в сермяге?.. Дивная, непонятная, безрассудная страсть к простой, дикой женщине; это непонятно. Откуда у нее эти глаза? Откуда у нее это лицо? Откуда у нее эта улыбка, эти речи? Зачем, по крайней мере, не свободна она, не девка? О, тогда пусть бы говорил себе кто что хочет, я бы только смеялся!
Он вздохнул и потер рукою сморщенный лоб.