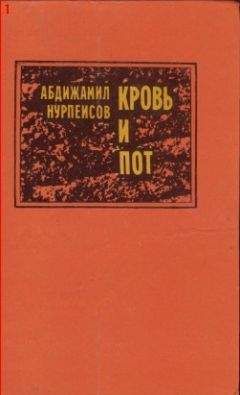— Ну, старуха, — начал Есбол, — красавца своего женить собираешься?
Бабка сразу оживилась.
— Ах, Есбол! Да ведь они теперь все сами решают… Нас разве спросятся?
— Ну? Замечала что-нибудь?
— Да есть тут одна…
— Баба? — Есбол поморщился.
— Какая баба— девчонка совсем! А я тебе скажу, она получше любой бабы будет.
— Это как же?
— А что? Испугался? — Бабка засмеялась.
Она засмеялась, и на Есбола дохнуло вдруг чем-то далеким, своей и ее юностью, он увидел вдруг на желтом пергаментном лице старухи трепет былой жизни. Она как бы вернулась туда, в цветущие весенние степи своей молодости. И его тоже.
— Ты ее знаешь, — медленно сказала старуха, все еще улыбаясь. — Она сестра Ализы, жены Мунке.
— Э! Это, значит, младшая дочка Алибия?
— Она и есть, — старуха опять засмеялась лукаво. — Это мальчишка! У Алибия ведь нет сыновей… Вот он ее и балует, она мальчишкой наряжается…
— А!
— Шустрая такая…
— А!
— Вот так, дружок, вот так… — Бабка вдруг заплакала. — Она следит… Следит, когда Рая дома нет. Придет, на домбре поиграет, попоет… Потом домбру бросит, сядет ко мне, прижмется и шепчет…
— Ну?
— Шепчет: «Бабушка! Давай я тебе буду невесткой!»
Есбол неопределенно хмыкнул.
— Сдаешь старуха, сдаешь, — сказал он и начал шарить свой верблюжий зипун. Нашарил, поднялся с трудом, стал тереть замлевшие ноги. Потом пошел к дверям. Старуха тоже поднялась.
— Ведь я женщина все-таки, — тихо и грустно говорила она. — Мне с Раем неловко говорить… А вы оба мужчины, вам легче… Да и то сказать, близких-то у него, кроме тебя да Еламана, и нету. Посоветуй ему. Девчонка-то больно хороша. Узнай, что он думает, а?
Есбол-кария взял с теплой золы чайник[2] и вышел во двор.
VI
Последний сын Мунке умирал. Он лежал в темной сырой землянке, никого не узнавал и ничего не видел. Ализа сидела возле и молча плакала. Ей хотелось плакать громко, ей было бы тогда легче, но Мунке печально молчал, и Ализа не смела голосить.
Шесть сыновей и три дочери их лежали на кладбище, за домом, на черном бугре. А этот был последний, и зачала его Ализа, когда ей было уже за сорок. Последний сын покидал мать.
— Ну, ну, Ализа! — тихо говорил Мунке. — Будем верить… Пришел Алибий, отец Ализы. Она взглянула на него снизу, уткнулась в колени и затряслась.
— Дочка, дочка… — сокрушенно забормотал Алибий. — Полежи, дочка, отдохни…
Он поднял ее, подвел к постели, уложил. Она жмурилась и мотала головой, задыхаясь. Все лицо ее было мокро. Отец достал платок, стал вытирать ей лицо.
— Крепись, дочка! — говорил он. — Молись аллаху! Ну что будешь делать, что делать, отдохни, милая, аллах милостив.
Он говорил так, а лицо у него прыгало и глаза наливались слезой. Он сдержался и вроде бы беспечно сказал:
— Шалунья хотела прийти со мной, да я не позволил, дома оставил… — Так он звал свою младшую дочку Бобек.
До самого утра приходили к Мунке рыбаки. Поздно вечером пришли Есбол, Еламан и Рай. Потом зашел и долго сидел Дос. Уже поздно ночью приходили и тихо говорили с хозяином другие рыбаки. Утром, собравшись на лед, они решили оставить Мунке дома. Но Еламан, подумав, увел Мунке в море. Он считал, что лучше отвлечься работой, чем сидеть возле плачущей жены. Бездельем горю не поможешь.
Вместе с Еламаном и Мунке работали Рай, Дос и джигит Култума. Култума был из соседнего рода Кабак. Приехал он сюда налегке, приехал заработать, а семью оставил дома. Он был услужливый, исполнительный, веселый парень. Попеть любил, повеселиться, вместо домбры брал пиалу, помахивал возле рта и пел тонким голоском:
И трава — песня, и заноза — песня, и песня — песня!
Рысью скачу я на ослике сером!
Эй, бедняжка, бедняжка, бедняжка…
Замерзнут рыбаки на льду, скучно им станет, и тогда кричат они Култуме:
— Эй, ну-ка спой о сером ослике!
Но сегодня все молчали, работали споро, поглядывали на Мунке. А Мунке, перебирая сети, нет-нет да и останавливался, выпрямлялся, поворачивался к берегу и, приоткрыв рот, слушал. Все ему казалось, что в ауле голосит Ализа.
Сегодня рыбы попалось порядочно. Оставив часть рыбы себе, рыбаки решили хоть немного сдать и пошли к промыслу. Каждый тянул за собой маленькие салазки.
Все они шли гурьбой, и каждый с облегчением шагал после дня тяжелой работы. Даже на ветру, на морозе одежда их пахла рыбой, руки пахли рыбой и сапоги тоже, и говорили они, конечно, о рыбе.
— Рыба-то сегодня попалась у самого берега…
— Апыр-ай! Тянет ее что-то на мелководье!
— Она зимой странная, — сказал Еламан. — То глубину ищет, а то до тех пор к берегу идет, пока не упрется спиной в лед, а брюхом в дно.
Невдалеке уже, у самого берега, под песчаными холмами белели три дома. Поблизости виден был большой холодильник. Это и был промысел. Рыбаки прибавили шагу и скоро вошли в холодильник. Он был еще пуст и гулок. В нос рыбакам ударил сильный запах рыбы, из темной глубины тянуло холодом. Там работали женщины — смутно двигались белые платки казашек и русских баб. Заслышав рыбаков, из темноты ледника показался Иван Курносый. Он состоял приказчиком при Федорове, но повадок хозяина не имел, был всегда радушен, весел, хоть и неискренней приказчичьей веселостью. Рыбаки чувствовали это и недолюбливали Ивана.
— А, Еламан… Еламанушка! — заулыбался Иван еще издали.
— Ласков больно, — пробормотал тихо Мунке.
— Рыбка в твоем мешке веселит его, — так же тихо ответил Еламан. Он поглядел по сторонам и нахмурился.
— Где этот рыжий парень? — спросил он у Ивана.
— Андрей, что ли? Зачем он тебе сдался?
— Рыбу принять надо…
— Тю! Да я сам приму, пошли!
Еламан сделал каменное лицо и отвернулся. Он знал, что Иван всегда пишет меньше. Потоптавшись, он велел рыбакам ждать и пошел искать Андрея. Он везде поглядел, но не увидел, кого искал. Тогда он отворил большую дверь в самой глубине ледника и заглянул туда. Немного погодя он вышел уже вместе с высоким рыжим парнем. Это и был Андрей — летом засольщик, зимой делал что придется: лед колол, принимал рыбу. С казахами он был хорош, и они любили его и называли по-своему: Сары-бала.[3]
— Чего это вы кислые? — спросил сразу Андрей. — Случилось что-нибудь?
— Да нет… Так просто.
Казахи сдали рыбу, один за другим понуро вышли из приемки. На улице невдалеке от приемки они сразу заметили нескольких человек в черном. Один из них был владелец промысла, русский купец Федоров. Характера он был крутого, казахов презирал, и его прозвали в народе Тентек-Шодыром.[4] Нынешняя неустойчивая зима никак не давала рыбакам выйти на лед далеко в море, а у берега рыбы попадалось мало, и купец был постоянно зол.
Его все боялись. Боялся его и Еламан и всегда старался держаться подальше. А сегодня вот попался на глаза, растерялся и подошел несмело, со смутным страхом на душе.
— Здравствуй… — пробормотал он, опуская глаза.
— Гм… Как рыба?
— Мало… У берега много не наловишь.
— Как мало?
— Да так… по пуду на человека было.
Федоров отвернулся, закурил. Потом зыркнул глазами по санкам рыбаков.
— Так чего же вы половину рыбы домой прете, а?
— Да это так… семьям понемножечку.
— Я тебе дам — семьям!
Еламан молчал.
— Так вот! Я порядки тут наведу! С завтрева чтоб брать домой рыбу только с моего позволения. Понятно?
— Как же так?..
— А вот так! Пока не обеспечите промысел рыбой— домой ни хрена! Ясно? А сейчас поворачивай оглобли, чтобы всю рыбу сдать!
И холодно поглядел на Еламана бесцветными, как соль, глазами. Еламан не решился спорить дольше. Быстро взглянув на Федорова, он пробормотал:
— Ладно… пусть будет по-вашему.
Мрачно подошел к дожидавшимся его рыбакам, ни на кого на глядя, молча, решительно забрал у всех, кроме Мунке, всю рыбу и повез назад.
— Что ж это, Еламан, дорогой? — поспешая за Еламаном, спрашивали рыбаки.
Только когда Федоров отошел далеко и не мог ничего услыхать, Култума рассердился.
— Меня бог создал, а не этот купец в черной одежде! — кричал он. — Что за оскорбление! А ну пустите мою руку, я ему покажу!
— Помолчи! — коротко, хмуро сказал Еламан.
И маленький щуплый джигит замолчал.
VII
На перевале Бел-Аран показался всадник. Он ехал из Куль-Куры. Гнедой конь под ним дымился, курчавился мокрой шерстью, но шел еще бодро и ходко, перевал Бел-Аран был для него еще легок. На самом перевале конь вдруг шарахнулся, косясь на могильный камень. Рябой, с синевато-темным лицом всадник в верблюжьей шубе, в мерлушковом тумаке быстро глянул маленькими глазками в ту сторону, куда испуганно косился конь, и остановился, натянув поводья.