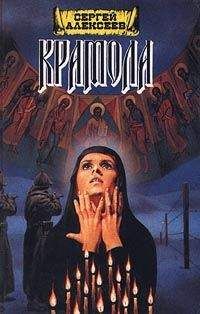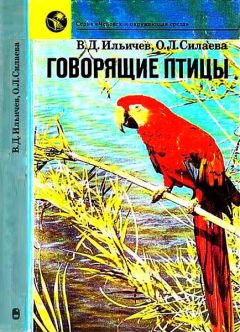Тауринс неторопливо поднял кожаную кепку, отряхнул ее, поправил звездочку над козырьком.
— Кром хороший, Германия, да… Менять можно. Кепка нужен, мода. Фуражка — плокой мода, белая мода.
Андрей подождал еще, но парадное так и не открыли, и никто не встречал в доме гостей. Теряясь в догадках и чувствуя раздражение, он пошел пешком в ревтрибунал и по дороге незаметно успокоился. И потом, когда сидел возле стола над делом, его уже не клонило в сон, однако прочитанное не воспринималось как действительность. Только что он шел по мирному городу, в толпе мирных людей, хотя среди прохожих часто попадались и военные, и не укладывалось в сознании, что над головами этих людей, как анафема, могут произноситься зловеще громыхающие слова — заговор, контрреволюция, белогвардейщина. Или вдруг колокольным набатом звучало в ушах — дон, дон, дон… Не могло быть, не имело права быть ничего!
Но он открывал новое дело, и в глазах застывал косой зигзаг молнии — расстрелять!
Вечером, возвратившись в гостиницу, Андрей послал Бутенина к коменданту с просьбой обменять кепку на фуражку. Однако Бутенин постучал в первый же попавшийся номер и скоро вернулся с поношенной, но хорошей фуражкой. Правда, она оказалась чуть маловатой, зато сидела на голове фасонисто и придавала уверенности.
— Яков, на сегодняшний вечер ты свободен, — распорядился Андрей. — Пасти меня не нужно.
— Товарищ Березинь, не имею права, — заявил телохранитель. — Ваша жизнь — моя голова.
— Ну, милейший! — возмутился Андрей. — А если я иду на свидание к даме?
— И я иду на свидание к даме, — повторил Тауринс. — Сторожу около тверь.
— Ну и жизнь пошла! — засмеялся Бутенин. — Во умора — к девкам не сбегать! Так ты чего, латыш, свечу держать будешь?
— Тефки бегать можно, — разрешил телохранитель. — Я толжен проверить, нет ли засад.
Андрей замолчал и со злорадством подумал: «Ну, парень, сегодня ты у меня побегаешь, поищешь!» Какой-то жгучий азарт сделать не так, как теперь полагается ему вести себя, пойти против всяких правил и даже против логики, азарт и жажда самостоятельности с юношеским безрассудством охватили воображение. Он уже прикидывал, под каким предлогом выйти из номера, однако в этот момент явился курьер с пакетом. На пакете Андрей вновь увидел почерк Шиловского, разорвал конверт. «Ув. Анд. Ник.! Прошу явиться к восьми часам вечера по адресу: Ордынка, дом куп. Замятина (бывший). Жду. Шиловский».
— Поехали! — скомандовал Андрей.
Тауринс спокойно надел тужурку, проверил маузер в колодке и револьвер во внутреннем кармане. Бутенин приуныл:
— А я хотел позвать на Красную площадь, покараулить…
— Лучше иди к девкам, — посоветовал Андрей.
— Нет, один пойду, — решил Тарас. — Девок и в Сибири много, а Ленина посмотреть — это да…
В назначенный час Андрей с телохранителем подъехали к белому двухэтажному особняку на Ордынке. Дом стоял в глубине сада, за чугунной решеткой, но калитка была открыта. Андрей ступил на посыпанную песком дорожку, испещренную лапотными, клетчатыми следами, и не спеша подошел к черной двери. Вид у особняка был праздничный, однако на окнах виднелись черные шторы, придавая облику дома траурность и покой. Тауринс зашел за угол, деловито осмотрелся по сторонам и вдруг замер. Андрей проследил за его взглядом и увидел мешковатого красноармейца, который слонялся вдоль изгороди и посматривал на дом.
— Пойдите и разберитесь, — сдерживая смех, приказал Андрей. — Потом доложите…
И потянул шнур колокольчика.
Дверь открыла женщина в переднике, похоже, горничная. Андрей назвал себя и попросил Шиловского.
— Проходите, проходите, — добродушно предложила горничная и протянула руку за фуражкой. — Юля! К вам гость!
В то же время по внутренней лестнице застучали каблучки. Андрей поднял голову: барышня лет восемнадцати сбегала вниз, и боязливая белая рука ее скользила по черным перилам.
— Андрей Николаевич? — спросила она. — Дядя велел подождать. Он будет через час. Агафья Ивановна, проводите в гостиную. Я сейчас.
Барышня взбежала по лестнице, и шаги ее стихли за скрипнувшей дверью. Перед глазами осталось бело-голубое пятно ее платья. Андрей отчего-то смутился.
— Прошу! — сказала горничная, ожидая, когда ей подадут фуражку. — Пожалуйста, в гостиную.
— Спасибо, — проронил Андрей и шагнул к двери. — Я на улице подожду. Погуляю… Целый час.
Тауринс дежурил на крыльце, меланхолично посасывая пустую трубку.
— Охрана, — доложил он и указал чубуком на красноармейца за решеткой ограды.
Андрей прошел мимо телохранителя, затем мимо неуклюжего Соколова и свернул за угол. Тауринс догнал его и двинулся следом, держась на расстоянии трех шагов. «Вот сейчас я от тебя и убегу! — с мальчишеским азартом подумал Андрей. — Держись, телохранитель. Сегодня побегаешь за мной, попотеешь…» Он миновал закрытую мясную лавку, выискивая глазами, куда бы нырнуть, и заметил арку проходного двора. Приблизившись к ней, он бросился под ее гулкий свод и, очутившись в каком-то дворе, побежал вдоль стены. Все-таки Тауринс не ожидал такого поворота и сразу же потерял Андрея из виду. Сапоги его простучали под аркой, когда Андрей уже был за углом обшарпанного нежилого особняка. Он видел, как телохранитель пометался по двору и молча ринулся в противоположную от Андрея сторону. «А, шпионская твоя душа! — восторжествовал Андрей. — Ну, ищи, лови меня!»
Он выскочил в переулок, затем обратно на Ордынку. Возле дома Шиловского он замедлил шаг, прошел мимо скучающего красноармейца-охранника и, едва тот скрылся за решеткой, вновь прибавил ходу. Редкие прохожие озирались на него, однако никто не выражал особого интереса. Андрею стало смешно. Он шел, улыбался и сдерживал себя, чтобы не рассмеяться в голос. Интересно, как Тауринс напишет в своем романе об этом случае? Правду скажет? Или солжет? Или вообще опустит эпизод, как проворонил подопечного? «Держись, писатель! — восклицал про себя Андрей. — Держись, подлый филер! Клеба мало, работы много…»
Освободившись от телохранителя, он впервые за последние месяцы почувствовал себя вольным. Никто не держал его под замком, не тащился за спиной и не дышал в затылок. Ему захотелось сделать какую-нибудь глупость: запеть, например, или сплясать на мостовой. Благо, что в тихих переулках и народу-то не было. Разве что пыльные, темные окна смотрят как-то настороженно, с опаской.
Минут двадцать он плутал по улицам, делал петли, и лишь когда слышал стук копыт и дребезг колес по мостовой, прятался в подворотнях и пережидал извозчиков. Теплый ветер, запах свежей, еще не пропыленной листвы и вечерний свет будоражили, наполняли душу радостью и ожиданием чего-то чудесного, непредсказуемого. Ему чудилось, будто сейчас, вот сейчас на этих незнакомых улочках появится та барышня с зонтиком, что была утром у гостиницы. Увидит его и побежит навстречу, роняя все из рук, как бежала к тому счастливчику. А он тогда снимет фуражку, и опустится на колено у ее ног, и поцелует край ее одежды.
А потом они пойдут гулять по пустынной Москве. И все будет свежо, ново, непорочно, как земля после потопа. Пусть будет так, пусть будет…
Вдруг Андрей заметил бело-голубое платье впереди и, повинуясь какому-то изумленно-радостному чувству, прибавил шагу, чуть не срываясь в бег. «Постойте! — про себя смеялся и звал он. — Это я, Андрей Николаевич! Ну, постойте же!» Девушка в бело-голубом повернула направо и словно махнула ему — сюда, сюда! Мимо протарахтела пролетка, но Андрей уже ничего не замечал вокруг. В это мгновение не существовало ни правил, ни телохранителей.
Он добежал до угла, за которым пропало бело-голубое пятно, и… очутился перед церковью с множеством нищих у паперти. Путь был один — вперед, и он пошел, будто сквозь строй. К нему тянули скрюченные руки, просили, задевая одежду; и эти ладони, и кепки, шляпы, крестьянские шапки поднимались ему навстречу, словно волна, и в одинаково скорбных глазах светилась надежда. А за его спиной, потеряв силу, все гасло и опадало с тихим шелестом, будто палая листва под ногами.
В церкви шла праздничная служба, и Андрей вспомнил, что сегодня — родительский день! Он подошел к конторке, чтобы купить свечи, но сразу не мог сосчитать, сколько же нужно, сколько поставить за упокой и сколько за здравие. Отец, брат, сестра, три дяди… И все-таки не сосчитал, купил наугад десяток и пробрался к столику, где писали поминальные записки. Карандаш оказался занятым, и Андрей, ожидая, вновь стал пересчитывать свою покойную родню. Оля… А вдруг жива она? Жив ли дед Прошка Грех? Дядя Всеволод, давно исчезнувший за границей? Дядя Алексей, лихой моряк?.. И жива ли мать?!
Взгляд его случайно упал на руки пишущего записку человека, почти прозрачные от старости, но крепкие, желтовато-смолевые, и лишь потом он обратил внимание на длинный список, возникающий под карандашом: было уже имен двадцать, а человек все писал и писал, словно хотел помянуть всех до седьмого колена. Андрей поднял глаза и увидел глубокого старика в генеральском мундире без погон.