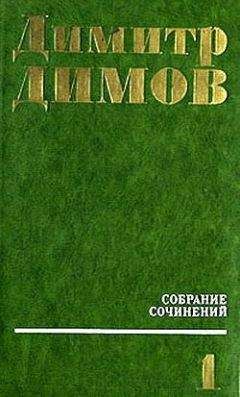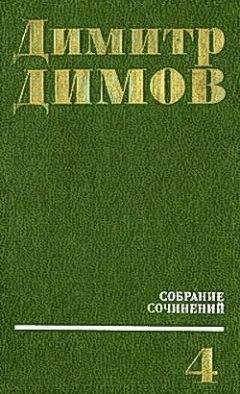– Испанцы!.. – взревел он с такой силой, что заглушил все крики. – Испанцы!..
Толпа притихла в изумлении. Даже солдаты, пораженные этим криком, перестали бить прикладами связанных страдальцев.
– Испанцы!.. – ревел бывший монах Доминго Альварес – Мы боремся за вас! Мы умираем за вас!
Офицер из толпы знаком приказал солдатам заставить его замолчать, и на спину и плечи осужденного с новой силой посыпались удары прикладами. Но эти удары не повалили крепкого, атлетически сложенного парня и не заставили его замолчать.
– Испанцы!.. – продолжал он. – Мы хотим спасти вас от тирании аристократов, от безумия попов, от грабежа капиталистов!.. Вот почему они хотят уничтожить республику… Вот почему они нас убивают!.. Испанцы!.. Бейтесь за республику!
И он прокричал еще несколько раз:
– Бейтесь за республику! Бейтесь за республику!
– Да здравствует республика!.. Да здравствует свобода! – стали кричать и двое других осужденных.
Фалангисты, легионеры, роялисты, наваррские добровольцы и певцы серенад из пламенного Арагона мрачно переглянулись, точно хотели принять общее решение. И они его приняли. Колебание их длилось всего один миг. С диким криком они прорвали кордон, вскочили на грузовик и вытащили свои ножи.
– Безумцы! – успел крикнуть Доминго Альварес.
Тела осужденных осели под ударами блестящих ножей. Из кузова грузовика потекла кровь. Толпа ревела. Фани закрыла глаза. Когда она их открыла, грузовик медленно отъезжал задним ходом, непрерывно сигналя, чтобы ему очистили путь.
Внезапно она почувствовала себя совсем плохо. Ее бил озноб, суставы болели, ноги подкашивались, губы пересохли. Головная боль, начавшаяся с утра, стала невыносимой.
– Сеньора, разрешите вам помочь? – спросил какой-то мужчина.
– Нет… я сама…
Делая нечеловеческие усилия, она дотащилась до машины и повалилась на сиденье.
– Поезжай… в лагерь… – приказала она Робинзону.
С северо-запада долетали звуки артиллерийской канонады. Два батальона наваррских стрелков и одна батарея двигались к Медина-дель-Кампо. Робинзон затормозил и высунулся из машины.
– Что, ребята, снова начинают? – спросил он.
– Да, сеньор.
– Кто?
– Красные!
Приехав в лагерь, Фани тотчас легла и приказала Кармен накрыть ее всеми одеялами. Потом она смутно осознала, что в палатку вошел Эредиа, что к ее губам подносят лимонад… Монах сделал ей два укола кардиазола. Потом она услышала его голос, далекий и чужой, который говорил Кармен:
– У сеньоры сыпной тиф…
«Конец, – подумала Фани. А потом подумала: – Нет… Еще нет».
Монах взял свою сумку и опять вернулся в общие палатки. Там было много больных, которые агонизировали. Он разделил между ними последний запас кардиазола и камфоры. Но одну коробочку с ампулами отложил. Эту коробочку он предназначал Фани, хотя ее жизни еще не грозила опасность. Он не притронулся к этим ампулам, даже когда увидел, что они могли бы спасти от смерти еще нескольких умирающих бедняков. Эти бедняки умерли у него на руках.
Далеко за полночь он вошел в часовню, и губы его зашептали: «Господи, прости мне любовь к этой женщине…» Но вдруг прогремел выстрел. Монах протянул руки и рухнул наземь. И захлебнулся в своей крови.
А в степи была ночь. На небосводе дрожали звезды. Из палаток долетали приглушенные стоны больных. Незарытые трупы продолжали смердеть, разносился гул республиканской артиллерии. Была черная, таинственная испанская ночь, ночь мертвецов, ночь убийств, ночь отмщения…
Какая-то тень, бесшумная, как призрак, незаметно скользнула в палатку.
В степи жалобно выли шакалы.
Дон Бартоломео Хил де Сарате, муж благородный и храбрый, обладал большим запасом теоретических знаний, но весь его военный опыт исчерпывался участием в нескольких карательных экспедициях против полудиких марокканских племен. Поэтому благочестивый и героический порыв своих войск он израсходовал на крайне сложные передвижения, смысл которых остался непонятным даже самому штабу. Красные батальоны, состоявшие из ткачей и металлургов Бильбао, напротив, сражались под командованием неопытных скороспелых сержантов, чьи мозги не были затуманены принципами высшей стратегии. Эти плебейские командиры разили упорно, внезапно и прямо в цель. После двухдневных боев, в которых дон Бартоломео потерял цвет своих отборных наваррских войск и даже роту молодых кастильских аристократов, Пенья-Ронда была окружена. Это произошло так неожиданно и так быстро, что дон Бартоломео не сумел своевременно отступить вместе со своим штабом, как это допускал устав, к соседнему аэродрому, где ждали два немецких «юнкерса». Предоставив населению три часа на эвакуацию, красные атаковали и взяли город. Им пришлось ввести в бой артиллерию, потому что наваррцы не сдавались и, забаррикадировавшись в домах, самозабвенно умирали за бога и короля. Металлурги, напротив, дрались спокойно, предлагали противнику сдаваться и по возможности сохраняли город, хотя и ценой своей крови. Было разрушено много домов, и пало много испанцев. Сухая земля с одинаковой жадностью впитывала дворянскую и плебейскую кровь. Пролетарские лохмотья и роскошные мундиры выглядели одинаково трагично, валяясь на земле. Пали фанатичные наваррцы, посвятившие свою жизнь Богородице, пали богатые арагонские крестьяне, любители боя быков, вина и серенад, пали аристократы, носители славных имен, чемпионы по игре в поло и стрельбе в голубей, пали фалангисты и легионеры, давшие кондотьерскую клятву Франко. Все они перед смертью расстегивали рубахи и целовали распятие, висевшее у них на груди, чтобы души их попали в рай. Но пали и рабочие Бильбао, которые не носили распятия, не верили в святых, не думали о бессмертии своей души. Пали почерневшие от фабричного дыма люди труда, которые хотели больше хлеба и больше воздуха для своих детей, пали честные труженики мысли, которые не могли терпеть эгоизма и высокомерия аристократов. Но больше всех пролили крови и в самые опасные места бросались рабочие. И так красные наступали от окраин к центру, сражаясь за каждую улицу и за каждый дом, и наконец окружили со всех сторон офицеров дона Бартоломео. Красные предложили им сдаться, но благородные идальго отказались, потому что они оставались высокомерными и чванными даже перед лицом смерти. И тогда кастильские дворяне, сунув пистолеты себе в рот, убили себя последними пулями среди бархатных портьер своего штаба, чтобы не позволить простонародью коснуться аристократов. Так пала Пенья-Ронда, и так снова пролилось много испанской крови за бога и короля.
На аргентинского врача Аркимедеса Морено, добровольца республиканской армии, была возложена тяжелая задача справиться с эпидемией в Пенья-Ронде. Аркимедес Морено был молодой и пылкий человек из пампасов. В Буэнос-Айресе тамошняя медицинская коллегия, пустив в ход шантаж, исключила его из своих рядов. Он издавал журнал, в котором требовал, чтобы все врачи были на государственной службе, а больных лечили бы бесплатно. Аркимедес Морено нашел убежище в Испанской республике, своей прародине, откуда два века назад эмигрировали его предки. Здесь у него были друзья, хотя и малочисленные, разделявшие его идеи. Гражданская война застала его в Саламанке. Аркимедес Морено записался добровольцем в рабочий батальон. Именно этот батальон атаковал и взял Пенья-Ронду.
Когда сержанту Мартинесу, командиру батальона, доложили, что в городе свирепствует сыпной тиф, он тотчас обратился к своему ученому другу Аркимедесу Морено. Сержант Мартинес имел представление о заразных болезнях по одной популярной брошюре о микробах. Читая по ночам книжки из различных областей знания, сержант Мартинес жадно пополнял свое образование. Он верил в науку, и его вера была гораздо горячее той, с какой прелаты Испании публично молились богу, чтобы он спас страну от голода, революции и болезней. Руководствуясь этой своей верой в науку, необразованный сержант Мартинес, сын рабочего и прачки, дал своему товарищу людей и облек его неограниченной властью, чтобы тот справился с эпидемией.
Аркимедес Морено прежде всего привез три дезинфекционных машины, которые ржавели в помещениях городской санитарной службы в Саламанке и о существовании которых до сих пор никто не подозревал. Потом он мобилизовал гражданских врачей, включая дона Эладио, и под страхом смертной казни обязал их вывезти на специально выделенных грузовиках всех больных из округи и трижды произвести санитарную обработку зараженных домов. И, наконец, он занялся лагерем.
Тут Аркимедес Морено показал, что он не расположен шутить. Монахам из ордена святого Бруно он велел немедленно снять свои грязные, вшивые рясы и вымыться. Двое из них по религиозным причинам отказались это сделать и были расстреляны на месте. Остальным он разрешил молиться, сколько им заблагорассудится, только не в рабочее время. Брат Гонсало получил строжайший приказ тратить на погребальную церемонию не больше пяти минут и отпевать мертвецов всех заодно. В саламанкских аптеках были реквизированы необходимые медикаменты. После этого Аркимедес Морено написал доклад главному интенданту республиканских войск, в котором доказал опасность сыпного тифа для тыла армии и потребовал палаток, коек, одеял и белья. Все запрошенное им быстро прибыло. Совершенно новый лагерь вырос возле старого. Потом Морено приступил к санитарной обработке больных. В жаркое время дня, когда не было опасности простудить больных, их стригли, раздевали, мыли и в чистой одежде переправляли в новый лагерь. Некоторые из больных противились этой процедуре, потому что кюре с детства внушили им, что человеку грешно раздеваться донага перед другими людьми. А старые палатки, соломенные подстилки, простыни и лохмотья, пропитанные потом и мерзостью, Аркимедес Морено приказал собрать в общую кучу. Так образовалась огромная куча лохмотьев и старья, кишевших тифозными вшами, ее облили бензином и подожгли. К небу взметнулось высокое пламя в черных клубах дыма. В этот момент на энергичном индейском лице Аркимедеса Морено появилась довольная улыбка.