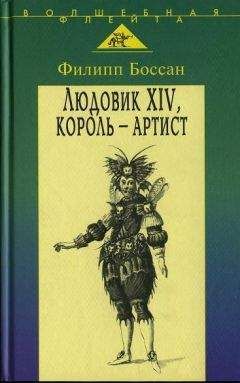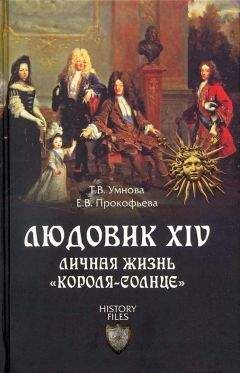Ознакомительная версия.
Не стану я ломать рога, так как рогами шерудить приучен, не суну я рога туда, где рогом переть надо, потому что мое дело — рогом шевелить, а чтобы при этом рога не замочить, на рога не полезу.
Такую имею я программку по рогам для моих копыт и светлых надежд на туманное будущее!
В общем вагоне сажусь на свободное боковое место. Глядя в пыльное окно, долго и тщательно пережевываю цыпленка табака, изготовленного в лучших традициях общепита, благодаря которым он, хотя и жесткий, как подошва, но по вкусу… истинная промокашка! Какой-то кугут сибирский, остановившись возле свободного места напротив, спрашивает:
— Можно, я сяду?
— Садятся, дядя, не здесь… — отвечаю, щеголяя эрудицией, — на срок садятся, а здесь токо присаживаются.
Кугут смотрит на меня озадаченно. Либо ничего не поняв, либо поняв что-то в меру своей подозрительности, уходит подальше. На фиг мне его общество?! Пусть сыроежка я, но остро чувствую грань, отделяющую меня от фрайеров дешевых: людей враждебных, раздражающе тупых и злобных.
«Дантес уже ступил на тот путь, по которому намеревался идти, и шел прямо к намеченной цели». (Дюма, «Гр. М.-К.»)
Конец репортажа 13
Репортаж 14
Гарун Аль-Рашид
Чем больше узнаю людей,
тем больше нравятся собаки.
(Психолог)
Вот как растут у нас люди, полезные Родине!
(А. Толстой о Л. Берии)
Прошел месяц.
Время — июль 1939 г.
Возраст — 12 лет.
Место — ст. Рузаевка
Утро. Спит бомж сидя, запрокинув голову. Совершая моцион в зарослях его небритой физиономии, муха с интересом поглядывает на гостеприимно распахнутый рот, откуда призывно воняет помойкой. По пути ко рту, надыбав на губе бомжа гноящуюся язвочку, муха с восторгом присасывается. Жужжа «Чур, на двоих!», рядом садится другая муха. Чекалдыкнув на брудершафт дозу алкогольного духа, извергаемого изо рта бомжа, обе мухи, сладострастно зажужжав, начинают заниматься сексом под сексуально волосатой ноздрей большого пористого носа бомжа. Чихнув и отмахнувшись от мух, бомж открывает опухшие, бессмысленные глаза. Озирается.
Новый шебутной денек в привокзальном сквере на станции Рузаевка только начинается. Зажатый с двух сторон железнодорожными путями, сквер этот, как жизнь советская, заплеван, загажен и располагает к хамству и скандалам. В каждом пристанционном сквере, подобно океану в капле воды, отражается «советская действительность». Но если в других местах Сесесерии срам каким-то фиговым листочком прикрыт, то в пристанционных сквериках — все понатуре и без понтА. Особенно — люди: каждый тут «как на блюде», как облупленный.
Среди разномастных пассажиров спят, едят, опохмеляются и скучно ругаются постоянные обитатели пристанционных сквериков: неопрятные бабы, хранящие под огромными юбками стойкий аромат протухшей рыбы, и унылые типы бывшего мужского пола, надсадно выдыхающие гнусные букеты перегаров в сочетании с тухлой пропастиной, застоявшейся в их заживо гниющих организмах.
Истеричные, трусливые, нахальные, больные и на все и всех злые — весь этот благоухающий сортирами, завшивленный привокзальный бомонд хотя не в ладах с конкретной советской властью, особенно с милицейской, но (!) боготворит вождей и абстрактную власть советскую, на которую возлагает свои похмелюжные надежды получить блага, которые власть должна забрать у жидов и гнилых интеллигентов, чтобы вручить им.
Хотя они ничего не делают, ничего не умеют, зато от рождения пролетарское происхождение имеют, родившись от таких же, как они, грязных люмпенов, воспетых Великим Пролетарским Писателем. Только любая власть, тем более советская, тех, кто ей по барабану, в упор не видит. Госплан допоздна не засиживается, планируя благотворительность для крахов. В чем мать родная крахов родила, в том Родина-мать их и оставила…
Соседа по скамейке, кроме вшей, зудит жажда общения. Почесав зудящее междуножье, он заговаривает со мной:
— Чо, поц, грустный?
— Я не грустный, а трезвый… — отвечаю я расхожей фразочкой. Но бомж реагирует на фразочку очень буквально и сочувственно:
— Да-а… тяжелый случай… — вздыхает с пониманием и комментирует трагическую ситуацию: — Разъедрит его за этак, если так на перетак, а потом за переэтак и еще разок на так! — И трет ладонями небритое, помятое лицо, будто бы пытаясь стереть с него синяки и ссадины — следы недавнего советского воспитания, полученного в местном отделении милиции. Но жажда общения душу бомжа сжигает, и с другого конца он ко мне подъезжает:
— А как звать тя? Поц? Ты че, глухой?
— Абгъаша… — подъелдыкиваю я, чтобы закончить амикошонство.
— Так ты че-о… еврей??! — удивляется бомж.
— Это так на перетак… оттого, что иногда умываюсь.
Мой ответ вонючего бомжа озадачивает. Подумав, он решает, что хитрю я, скрывая от него, проницательного, как НКВД, свою предосудительную национальность. От этого он становится снисходительным и меня утешает:
— Ну-ну… бывает… ить, ишшо пацан, а уже — еврей! От того умываться приходится!
Отворачиваюсь от дурно пахнущего бомжа, и он смолкает, посчитав, что слишком много сочувствия уделил недостойному того «Абгъаше».
Рядом, сдвинув вместе две скамейки, разложив на них простецкий багаж, а на багаже разоспавшуюся детвору всех возрастов, кучкуются вербованные на Сахалин. Парень с балалайкой наигрывает незатейливый мотивчик, а пожилая женщина в сером платке, по-вятски поакивая, поцокивая, будит частушками разновозрастную ребятню:
А я сидееела на крыль-це,
А с выражеееньем на ли-це-е,
А выражааало то ли-цо,
А чем садяааатся на крыль-цоо-о!
Среди степенных транзитных пассажиров, которые, подобно наседкам, неотрывно греют задницами свои монатки, шныряют по скверику шустрые ребятки, проявляя пристальный интерес к фанерным углам и баулам, разноцветным узлам и сидорам, разномастным скрипухам и мешкам, как экскурсанты в музее дорожного багажа. Это домашнЯки — местная шпана бановая… урки на окурки… Те, кого подначивают: «Люблю воровскую жисть, да воровать боюсь!» Как Монте-Кристо, я
«с минуту глядел на них с кроткой и печальной улыбкой человека, сознающего свое превосходство»,
потому что ощущаю по заначкам денежные купюры, которые вчера позаимствовал из дамской кисы. А на такое шмотье, на которое кнацают эти кусошники, я ни в жисть не позарюсь. Благоразумие подсказывает мне держаться подальше от шпаны рузаевской, которой не в падлу подловить меня и ошмонать. Еще и пачек подбросят для острастки. И буду я светить по вокзалам радостно пестрым фингалом, как знАком качества советского воспитания. Зная про их дурные замашки, линяю подальше от этой компашки, унося на другой конец сквера печальную улыбку Монте-Кристо, как
«человека, сознающего свое превосходство».
* * *
На этом конце сквера румяная пышечка в беленьком коротеньком халатике с грохотом притаранила голубой фанерный ящик на гремучих шарикоподшипниках. На ящике нарисован радостно улыбающийся белый медведь на льдине и кудряво написано одно слово, от которого у всех пацанов слюнки текут: «Мороженое». Вокруг ящика собираются пацаны, но очаровашечка, как мастер, знающий себе цену, не спешит, не суетится. Достав крохотное зеркальце, поправляет кружевной кокошник.
Улыбчиво оглядев пацанов, которых со всех концов сквера притянул, как магнит, этот фанерный ящик, она открывает крышку ящика, протирает белоснежной тряпочкой запотевший верх алюминиевого бидона и начинает сноровисто торговать. Положив хрусткий аппетитный кружок вафли на дно круглой формочки, приоткрывает на мгновение бидон, доверху наполненный белоснежным холодком, зачерпывает ложкой нежную прохладную сладость и, ловко заполнив ею формочку, тут же срезает той же ложкой излишек.
Прихлопывает сверху еще одним зажаристо-хрустящим кружочком вафли, нажимает на поршень формочки и… самое великолепное творение человеческое — мороженка — уже в чумазой ручонке маленького восторженного покупателя, который, глядя на это белоснежно— сладкое, прохладное чудо, и вздохнуть-то боится от восхищения!
Бойко идет торговля. Влекомые чадами, неохотно подтягиваются хмурые родители. Не хотят смотреть они, как призывно, как соблазнительно улыбаются мороженщица и белый медведь! Насупив брови, долго смотрят родители на цену. Смотрят сурово и неодобрительно, как рабочий на плакате смотрит на интеллигента — бюрократа. Но, взглянув в умоляющие глазенки своего ребятенка, крякнув, сдаются родители: достают из заначек грязные носовые платки, развязывают хитрые узелки, тщательно отсчитывают медяки… Зато как же сияют пацанячьи мордашки! Да за такое лучистое сияние все отдать — только в радость! И медяки… даже если они последние! Ну и что — последние?! — жизнь наша, небось, тоже последняя: из этой вонючей жистянки никто живьем не выкарабкивается!
Ознакомительная версия.