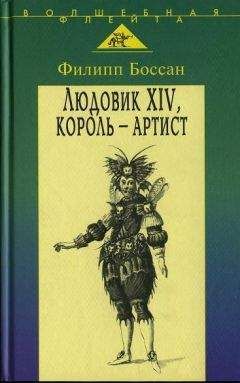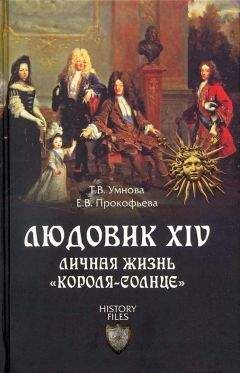Ознакомительная версия.
Смущенный настырным натиском юной цыганочки, я перекладываю в ее смуглую ладошку мелочь из карманов и монеты исчезают в складках широкой юбки. Проворно схватив мою руку, вглядывается цыганочка в узоры линий на ладони:
— Ай, запутанная судьба твоя, дорогой мой, ай, какая! Трудное гадание, ой-ойе-оей, какое трудное!!.. Ай не пожалей еще денежку золотой! Была вчера удача шальная, богатый ты… не пожалей денег для бедной цыганки! Ай, никто другой тебе правду не скажет, а добрую судьбу не нагадает… Ай-ай-ай! Не пожалей малых денег сегодня — большого несчастья избежишь завтра… Ай-ай-ай, от гадания моего добрая судьба сбудется, а злая забудется!
Я достаю приготовленную на билет пятерку, и она, исчезает, даже не прикоснувшись к ее руке. Гадание начинается, и на большом серьезе. Несколько раз цыганка смотрит внимательно то на ладонь, а то в глаза мне, что-то сравнивая или молча спрашивая кого-то незримого… Кого? О чем?..
— Жизнь твоя, золотой, ай, как запутана! Живешь ты поперек своей же судьбы. Ай, какая судьба поперечная! Никто за такую судьбу тебе не скажет! Только я! Ай, какое зло тебе причинили! Осиротили тебя подлые люди! Ай, сколько осталось горечи в сердце твоем! А в душе твоей добра — немерено! Ай, как много добра! И не злоба, а любовь это! Ай-а! — Легко на жизнь смотри, не бойся ничего — и много счастья тебе будет!
Скоро встретишь друзей хороших, да недолгой встреча эта будет, злые люди и тут разлучат вас. Но память о друзьях на всю жизнь сердце твое согреет! Ай, как все в судьбе переменчиво, будто не одна у тебя судьба, а несколько… Вот, оборвалась линия жизни… а ты-то жив!! — значит, долго еще жить будешь! Вот она — твоя новая жизнь! А старая оборвалась! Похоронили тебя, и живи ты спокойно! В этой жизни покой только у покойников! Смотри, смотри-ка, и смерть тебя тронуть не смеет! Вот это — ой-ойе-ео!! Вот как?? Тронуть смерть тебя боится!!. Ай, все она примеряется, примеряется… следом ходит, кружит восьмерки около… а ты не бойся, я заговор сделаю: «Трижды смерть переживи, а потом еще живи!!» Ай, да хранит тебя сердце доброе и душа легкая, как у ромАла, беспечная! Ай, много денег у тебя будет, а богатым не станешь, ай, много женщин тебя полюбят, а ты их не заметишь, ай, много в жизни твоей горя, а будешь ты жить счастливо! Вот, вот, смотри-ка, еще два раза умрешь! Трижды тебя хоронят! А после третьей смерти ждет тебя жизнь долгая и счастливая. Берегись смерти четвертой!! Ай, счастье, золотой, будет через то, от чего бежать будешь, да не уйдешь, а горе — от того, что вместо счастья позовешь. От простоты да доверчивости твоей…
Я запутываюсь в тенетах странных, противоречивых предсказаний юной вещуньи — и становится мне досадно: на фиг знать мне про то, что ждет меня в преклонные годы, после тридцати! Стоит ли жить до таких скучных лет? А про дальнюю дорогу я и сам могу нагадать всем, кто здесь ошивается! Подумав так о словах цыганки, отталкиваю ее руку и убегаю. Позади — звонкий смех цыганочки… не потому ли, что за пятерку узнал о том, что я лох?
* * *
Бреду по скверику дальше. Вот и место есть, где присесть. Сидит кто-то на краешке скамейки так скованно, будто сел на чужое место. Странный он какой — чересчур худой… хотя в СССР не удивишь худобой… но лицо… лицо-то как у графа Монте-Кристо:
«Но бледность этого лица была неестественна, словно этот человек долгие годы провел в могиле и краски уже не могли вернуться к нему».
Почему лицо такое напряженное? Да ему же плохо?!! Я подбегаю.
— Чем вам помочь?
Человек благодарно смотрит на меня. Я вспоминаю взгляд собаки, умирающей: виноватый, умоляющий. Собаке перебили позвоночник. Она мочилась под себя и чувствовала себя виноватой. Добить собаку — духа ни у кого не хватало… От этого человека тоже пахнет мочой, он знает это, ему стыдно.
— Извини, мальчик, плохо мне… а билет надо закомпостировать до Пензы… — говорит он, доставая билет трясущимися кривыми пальцами. Не удержав билет в искалеченных пальцах, роняет. Извиняясь за неловкость, улыбается жалобно, и вижу я, что во рту у него вместо зубов только корешки.
— Как же вас, такого больного, выписали из больницы?
— Я из тюрьмы… в Пензу еду к матушке.
И до меня доходит, что это один из счастливчиков, которым выпала удача быть освобожденными после расстрела Ежова. Поводы для освобождений были не менее загадочны, чем поводы для арестов. Зато Берия сразу разгрузил тюрьмы, переполненные Ежовым. Показал свою деловитость Берия, лихо сделав карьеру на угодливой глупости Ежова.
Приняв бессовестно обтекаемую форму, я, не отвечая на энергичные призывы к совести, проскальзываю сквозь толпу, как намыленный, без очереди компостирую билет. В буфете спрашиваю:
— Теть, пирожки свежие?
— Уж не первый день свежие… с печенкой!
Купив шесть пирожков и пару граненых стаканов с морсом, тараню это на скамейку. Хочу расспросить: что было с ним «там»?.. Говорят, при аресте одного врача нашли «Русско-латинский словарь» и через три минуты допроса, с применением ножки стула и паяльника, врач сознался, что он латинский шпион, завербованный Цезарем!
Знаю, что «там» берут подписку «о неразглашении», хотя достаточно взглянуть на любого освобожденного, чтобы понять: нечего ему разглашать. Все сразу видно. И не лезу я с расспросами. И он стесняется. Запаха и беспомощности. Но, переборов себя, просит помочь сесть в поезд. Я охотно соглашаюсь. Съев по пирожку, запиваем сладеньким морсом. Завязывается разговор.
— До ареста я пианистом был… известным. Да — был… и уже не буду! — говорит он, глядя на искалеченные пальцы. — Семья была в Москве… жена, дочка… и дочки нет… в живых! А жене я не нужен. Осталась мама… еду проститься… чтобы умереть. Не жилец я…
Говорит он бесцветно, равнодушно. А лицо, без того бледное, становится похожим на гипсовую маску. Я, как могу, ободряю:
— Вы живы! На свободе! И мама есть! А здоровье — дело наживное… кумыс надо пить! Я в Уфе пил… кисленький, от всего вылечивает! И мама поможет, и все пройдет… Вон, Кампанелла двадцать лет оттянул по кичам святой инквизиции, а на воле кардиналом стал! Книги написал! Не только «Город Солнца», а сонеты о любви!! А какие пытки терпел! Например, «гаррота» — значит «объятия девушки»! Вставят в тисы и закручивают… а еще страшнее — «велья»…
И тут я вижу, как лицо его искажается гримасой отвращения и ярости…
— Что понимала в пытках святая инквизиция! — шамкает он рыдающим шепотом, брызгая слюной из беззубого рта. — Когда мужчине каблуком расплющивают мошонку — это больно, но только раз… когда слесарным напильником спиливают зубы — это больно и долго… зубов много, а болят они не только на допросе, но и в камере… И это можно стерпеть! Когда пианисту ломают дверью по одному самое дорогое для него — пальцы! — это не очень больно, но так горько… Я и это терпел! И когда меня по ночам регулярно водили к следователю для того, чтобы он помочился мне в рот со спиленными зубами — это было не больно, только жить после этого не хотелось… А когда привели к следователю для того, чтобы я смотрел, как эти… насилуют дочку… мою девочку… похотливо замучивают насмерть… это… хы-ы-ы-ы!!!.. — вдруг по-звериному взвыл он и жутко в страшной судороге стал выгибаться назад, падая со скамейки навзничь головой вниз.
— Помоги-ите! Помоги-и-те-е!! — в отчаянии кричу я, пытаясь удержать его, положить на землю, но не могу справиться с его худым, на вид невесомым телом, бьющимся в судорогах. Подходят люди, смотрят: интересно же. Тощее тело дергается жутко, как кукла на веревочках у неумелого кукловода. Вокруг беззубого рта пузырится пена… Что делать?? Что делать!!! Бегу к вокзалу:
— Милиция! — кричу. — Дяденьки милицейские! Скорее!! Помогите!!!
Не спеша проходит вечность. Отгоняя мух от распахнутого в зевоте рта, кто-то звонит по телефону. А вечность все тянется, тянется… и нет «скорой помощи»! Судорога стихла. Он лежит на спине с открытым ртом. Пена больше не пузырится… да он же не дышит!!
— Что же вы так долго ехали?! — восклицаю я с горьким упреком. Люди в белых халатах ответом не удостаивают. Один из зрителей грустно шутит:
— Чем позднее приезжает «скорая» — тем точней диагноз!
— В сторонку, в сторонку отойди… — ворчит санитар. — Тут диагноз точный: покойничек! Товарищ, не лезь поперед батьки в пекло! Придет твой черед — получишь и ты такой же диагноз… не суетись, не торопись, не сучи ногами — на всех такого диагноза хватит!
Тело на носилках. Только что был человек… думал, говорил, страдал… и! — ни боли, ни горя, ни забот, ни желаний — нет ничего! Нет человека. Со скрежетом носилки задвигают в фургон.
— Ты ему — кто? — спрашивает меня врач.
— Никто… — бормочу растерянно. — Помочь хочу…
— Гуляй, пацан… никто ему не поможет…
Эх, Гарун Аль-Рашид! Легко у тебя добрые дела делались. Не потому, что был ты сказочно богат, а потому, что жил в доброе средневековье, когда был закон: не обижай зазря безобидного. Советскому зверью, из одичавших приматов, непонятны дотошные суды инквизиции, им смешны по-дилетантски неумелые пытки средневековых палачей.
Ознакомительная версия.