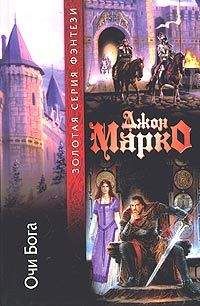За хлопотами некогда было де Геннину съездить в Невьянск испить кружку ячменного пива. Демидов же, хоть и своих хлопот было немало, не уставал следить за делами на Исети-реке.
Со всех казенных заводов Каменного Пояса — с Уктусского, Каменского, Алапаевского, из далекой Олонщины да из Петрозаводска — отовсюду стягивал де Геннин мастеровых и ремесленных людей. Из сибирских волостей пригнали приписных крестьян; с котомками, изможденные, оборванные, пришли в дебри за сотни верст на работу плотники, каменщики, кузнецы, плотинщики…
Весной открылись топи; народился неисчислимый гнус; вода текла ржавая, гнилая. От тяжелой работы и плохой пищи на людей напала хворь. Десятки солдат и мастеровых каждый день ложились костьми. Обессиленные, голодные люди стали роптать…
«Вот и пора приспела, — тешил себя мыслями Никита Демидов. — Теперь побегут. Ух, и шибко побегут!»
Угадал Демидов: в одно утро полк снялся и пошел в поход, прочь от стройки…
Де Геннин и офицеры забили тревогу, бросились за солдатами…
Солдаты шли толпой, напролом через чащобы, через болота: спешили уйти от гнилой могилы среди угрюмых и суровых мест…
До Тобольска — восемьсот верст. Что там ждало взбунтовавшихся солдат? Об этом не думали, отгоняли мысль. Что будет, то будет…
Де Геннин сел на башкирского иноходца, нагнал полк в лесу, въехал в толпу, кричал, грозил карами. Солдаты сомкнулись, молчали. По злобным глазам понял Геннин: быть беде. Он огрел коня плетью, вырвался из толпы и ускакал.
— Добро сделал! — кричали солдаты. — А то кровь была бы…
Недалеко отошли беглецы: за быстрой рекой их встретили драгуны да пушкари.
Навстречу выехал офицер с обнаженной саблей и крикнул:
— Ворочай назад! Знайте, обещано вам лучшее содержание, харч и одежда. Кто супротив сего — стрелять будем!
Истомленные беглецы долго топтались, перекликались с драгунами, переругивались с офицерами; но против чернели дула пушек, готовые каждую минуту осыпать картечью.
К вечеру, потеряв всякую надежду пробиться в Тобольск, солдаты вновь построились и покорно поплелись назад, к Исеть-реке, к топям, болотам, к медленной, гнилой смерти…
Глубокой осенью, когда начался ледостав, де Геннин торжественно объявил об открытии города, названного — в честь супруги царя Петра Алексеевича — Екатеринбурхом.
В город Екатеринбурх из Уктуса переехала горная контора, появились горные чиновники.
Над Исетью задымил новый казенный завод.
«Осилил-таки, дьявол! — недовольно подумал Демидов о де Геннине. — Что-то теперь дальше будет?»
Петр Алексеевич ушел с войсками воевать в далекую кавказскую землю. Снова государю понадобились пушки и снаряжение. Царь крепко помнил о старом тульском кузнеце и послал ему из прикаспийского городка Кизляра свой портрет и письмо. «Демидыч! — писал государь Никите, — я заехал зело в горячую страну: велит ли бог свидеться? Для чего посылаю тебе мою персону. Лей больше пушек и снарядов и отыскивай, по обещанию, серебряную руду».
Словно чуял государь: так и не свиделся он больше со своим старым другом Никитой Демидовым…
Подошел тысяча семьсот двадцать пятый год.
Демидов ехал по горным делам из Москвы в Санкт-Питербурх, строя дальнейшие «решпекты» о заводском деле. 27 января 1725 года на ямской станции Бологое Никиту поразил слух, передаваемый со страхом и шепотом встречными курьерами: государь Петр Алексеевич находился при смерти. Только теперь Демидов заметил, что петербургский тракт был необычно оживлен: то и дело встречались конные фельдъегери, спешившие в Москву. По дороге из Москвы Никита обогнал много экипажей со знатными дворянскими гербами: торопились в столицу дворяне в чаянии радости или печали.
Никита знал, что государь страдает тяжелой болезнью, но, веря в железный организм царя, он успокаивал себя: «Ничего, даст бог, Петра Ляксеич поборет и эту хворь!»
Однако на душе Демидова было тревожно, словно в потемки погрузились думы. На каждой встречной ямской станции слухи о болезни царя становились упорнее и бередили душу Никиты. Он на дороге останавливал курьеров и допытывался, как царское здоровье. По сумрачным лицам угадывал Демидов: хуже царю.
«Неужели не встанет наш сокол?»
По осени царь посетил Старую Ладогу, Новгород и Старую Руссу, где тщательно обозревал солеварни. Не дав себе отдохнуть, Петр полюбопытствовал осмотреть Сестрорецкий оружейный завод.
Стоял на исходе октябрь, пора холодная и мрачная, сильная моряна вздымала и кидала в глаза мокрые листья; кончался листопад. На заливе гуляла непогодь, рвала паруса; царь торопился в Сестрорецк на малой и ветхой шлюпке. От пронзительной моряны он сильно продрог, велел пристать к берегу у деревеньки Лахты. Развели костер; царь обогрелся; ветер, однако, не стихал, и волны белогривым табуном налезали на низкий и топкий берег. Из гнилого угла, как лохматые быки, медленно шли тучи и волочили тяжелые серые космы по гребням волн. Наступали сумерки. И тут царь увидел: шальные волны выбросили на мель грузный бот с матросами и солдатами. Прибой ярился, сбивал людей с ног, тащил в пучину, — грозила неминуемая гибель. Царь спешно послал на помощь свою шлюпку, но неповоротливость команды — так казалось царю — вывела его из терпения. Он вскочил в маленькую лодочку и сам прибыл на место крушения. По пояс в студеной воде он таскал утопавших, обессиленных солдат.
После этого ночью у царя сделался озноб; он пролежал несколько дней в Лахте. Старая финка вскипятила царю навар, он испил, за ночь хорошо пропотел; немного полегчало. Утром государь попросил любимую голландскую трубку и закурил. В тот же день Петр Алексеевич возвратился в столицу.
Казалось, царь старался наверстать упущенные дни. Он объехал новые стройки, побывал в остерии, где встретился с голландскими купцами, участвовал во многих церемониях. 24 ноября Петр Алексеевич присутствовал на обручении дочери, цесаревны Анны Петровны, с герцогом Голштинским.
Екатерина Алексеевна уговаривала мужа:
— Не жалеешь ты себя, государь, все мечешься, отлежался бы от хвори…
Трудно было уложить в постель кипучего, неугомонного царя. Но все же запущенный недуг дал себя почувствовать. Обессиленный, Петр Алексеевич 16 января слег в постель и не смог больше подняться…
За делами в Туле да на Каменном Поясе Никита Демидов давно не видел Петра Алексеевича и сильно тосковал по нем. В последнюю встречу в Санкт-Питербурхской гавани, когда Никита отгружал железо на голландские корабли, царь любовно схватил его за плечи, сжал крепко, глаза округлились — в них немало было блеску.
— Вот видишь, Демидыч, дожили мы с тобой, когда русское железо в иноземщину идет!
Демидов глянул на царя; лицо его было вялое, с желтизной. Никита вздохнул и сказал:
— Поберег бы себя, государь Петр Ляксеич.
Царь весело оскалил зубы; глядя на водный простор, откликнулся:
— Некогда беречься, Демидыч; надо российскую землю на простор вывести; вот тогда-то и отдохнем. Ох-х…
Да, прошло все! Сейчас Демидов повесил голову, ехал молча; на сердце — горечь и тоска.
В Любани, в ямской избе, толпилось много людей разных чинов и званий.
Никита, кряхтя, вылез из колымаги, оперся о костыль; у самого дрожали ноги. Понял старый тульский кузнец, что свершилось непоправимое горе.
В это серое утро, в начале шестого часа, царь Петр Алексеевич умер на руках жены.
Никита Демидов бессильно опустился на лавку и окаменел.
Безволие и тоска овладели стариком: «Как понять всю потерю? Куда торопиться? Что там, в Санкт-Питербурхе? Чать, не до горных дел?»
Подавленный горем, он выехал из Любани.
Прямо с дороги Никита поторопился к телу государя. В малом дворцовом зале, затянутом золотою тканью, на катафалке стоял большой дубовый гроб, крытый золотым глазетом. Высокие двери зала открыты настежь: желающие могли свободно прощаться со своим государем.
Ноги Демидова отяжелели; он шел медленно, тяжко к последнему пристанищу императора. Поглядывая на высокого, сухого старика, люди расступались. Лицо Никиты было желто, как у аскета; старик крепко сжал тонкие губы; черные, глубоко запавшие глаза тянулись взором к погребальному ложу царя.
Лысый череп Демидова поблескивал. Никита подошел к гробу.
На шелковой подушке лежало знакомое застывшее лицо императора. Перенесенные страдания запечатлелись на нем.
На царе надеты шитый серебром кафтан, сапоги; при нем — шпага, и на груди — андреевская звезда.
При гробе дежурили молчаливые и строгие офицеры в парадной форме; поодаль стояли двенадцать драбантов в черных епанчах и в широкополых шляпах с крепом.
Демидов приложился к холодной руке царя; слезы облегчили его горечь. Он долго, пристально глядел на дорогое сердцу лицо государя и, плача, пожаловался:
— Эх, поторопился ты, Петра Ляксеич, дел-то сколь осталось недоделанных…