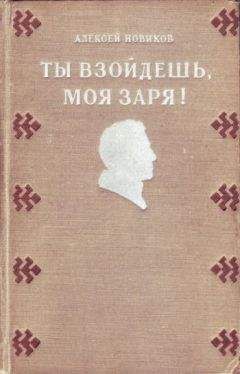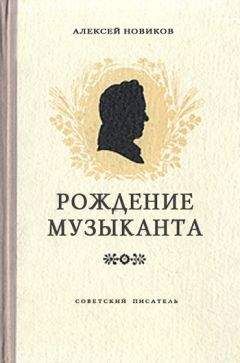Ознакомительная версия.
Едва попав на немецкую землю, Глинка не зря подбивал спутников петь из «Волшебного стрелка». Эта опера Вебера обошла все сцены мира. Глинка давно знал ее по Петербургу. Как же относятся к этой опере, сотканной из народных напевов, сами немцы?
В его памяти встают восхищенные лица слушателей. Слушатели стучат пивными кружками о столы, требуя повторения, а трактирщик низко кланяется проезжим чудакам: наплыв публики на их импровизированные концерты дает изрядный барыш. Справедливость требует отметить, что восторги слушателей вызывал преимущественно первый тенор Иванов. Мало кто обращал внимания на скромного молодого человека, певшего партию второго тенора сиплым, глухим голосом.
Глинка отложил дорожный дневник. «Волшебный стрелок» Вебера? Нет, это все еще не то, что должно родиться в опере от народных напевов, если суждено осуществиться его, Глинки, замыслам.
Он снова перелистывает путевые дневники. Вот она, заметка, сделанная в Аахене. Вечную признательность сохранит он к этому городу за то, что слушал здесь оперу Бетховена, его единственную оперу «Фиделио». Когда-то, еще с домашним шмаковским оркестром, он разыгрывал увертюру к этой опере. В Аахене он дважды слушал «Фиделио» в театре, чтобы уразуметь все ее величие. Признаться, он готов отдать все оперы Моцарта за «Фиделио». Он плакал в театре от восторга. Плакал, а потом размышлял. Как ни были смутны его собственные замыслы, сам Бетховен не мог ему помочь!
С листов записной книжки вставали города и встречные люди. Стук в дверь вернул от воспоминаний к действительности. Откуда-то пришел Иванов. Он самовлюбленно рассказывал о своих триумфах: его нарасхват зовут в самые знатные дома. Если только Михаил Иванович согласится аккомпанировать, тогда будет завоеван весь Милан.
– Мы едем на днях в Рим, – отвечает Глинка.
Иванов принимает новость с огорчением, но что значит это огорчение в сравнении с безутешным горем вдовы Джузеппе! Плохо ли она ухаживала за синьором? Разве в комнате нет калорифера? Нет, она и подумать не может о разлуке. Вдова задумывается и находит еще один разительный аргумент:
– Что скажут соседи, все добрые миланцы? Да они попросту не отпустят любимого маэстро!
Глинка утешает почтенную женщину и клятвенно заверяет, что непременно вернется в Милан и именно в эту же комнату, к уважаемой синьоре.
А дорожные сборы идут своим чередом. Вероятно, никогда еще ни одного из путешественников не провожала такая оживленная и огорченная толпа друзей. Может быть, в день отъезда синьора Глинки было слишком шумно даже для итальянской улицы. Может быть, и осведомился кто-нибудь из австрийских ищеек, что происходит на улице Corso porta Renza.
Ответ не объяснил бы, впрочем, этой необыкновенной суматохи. В самом деле, чего сходят с ума эти миланские бездельники, если все происшествие заключается только в том, что какой-то русский путешественник переезжает из Милана в Рим?
В Риме Глинка встретил Гектора Берлиоза.
На вилле Медичи, где жили стипендиаты Франции, молодой француз высокого роста аккомпанировал на гитаре хору. Хор с увлечением пел из «Фрейшюца». Потом французы обступили редкого гостя – музыканта из России. Но еще не успели отзвучать приветствия, как Берлиоз сказал Глинке с возмущением:
– Представьте, эти итальянцы не знают даже музыки Вебера! Они ничего не знают!
Он взмахнул своей гитарой, и молодые французы снова запели с большим искусством.
Концерты на вилле Медичи устраивались почти каждый вечер, но французы никогда не пели ничего из итальянской музыки. Да они, пожалуй, знали о ней не больше, чем итальянцы о существовании опер Вебера.
В кафе Греко, излюбленном артистической молодежью, которая съезжалась в Рим со всех концов света, Гектор Берлиоз с той же горячностью продолжал свои речи:
– Италия! Почтим прекрасную Жульетту, спящую мертвым сном в своей гробнице, – и прочь с кладбища! Счастлив артист, который сделает это во-время. В Париж, друзья мои! Там исполняют девятую симфонию Бетховена! А здесь? – вопрошает Берлиоз и, как прирожденный оратор, делает короткую паузу, чтобы овладеть общим вниманием. – Когда в римской филармонии, – продолжает он, – хотели исполнить ораторию «Сотворение мира» Гайдна, музыканты не могли ее освоить. – Оратор делает повелительный жест. – Пусть же идут в монахи эти профаны, оскорбляющие звание артиста!
Экстравагантный оратор целиком сходился с Мендельсоном в отношении к Италии и нападал на самого Мендельсона с той же страстью:
– Он похож на гробокопателя, этот умереннейший из немцев! Нашел себе идола – Палестрину! Вкус и техника, конечно, есть, но говорить о гениальности – это просто шутка! И сам Мендельсон, пишущий фуги, похож на музыкального ткача.
– Музыкальный ткач! Он скажет, этот француз!
Словечко, пущенное Берлиозом, с восторгом повторяли за соседними столиками. Пылкого оратора слушали в кафе Греко молодые музыканты и живописцы, ваятели и зодчие, все, кто понимал французский язык. Речи бунтаря-музыканта приходятся по вкусу молодежи. На столиках появляются новые бутылки вина, атмосфера накаляется, а неутомимый француз продолжает вздымать бурю:
– Мы, пионеры, прорубим новые дороги музыке. Мы выкорчуем накопленный веками хлам!
Так готовится к будущим битвам Гектор Берлиоз, а поодаль сидит за столиком в кафе Греко Михаил Глинка и наблюдает. Речи Берлиоза кажутся как нельзя более уместны в Риме.
В государстве, которым правит папа римский, не только монастыри и костелы, но и улицы забиты монахами. Одна священная процессия сменяет другую. За церковной латынью не услышишь итальянского языка. «О, patria mia!» – мог бы и здесь с горечью воскликнуть каждый патриот. Но подданным его святейшества отнюдь не рекомендуется думать об отечестве: мирские мысли ведут к соблазну и греху.
Прав Гектор Берлиоз, который до того задыхается в столице наместника Христа, что, ораторствуя в кафе Греко, срывает галстук с шеи. Ему легче дышится, когда он выходит за ограду виллы Медичи и покидает излюбленный столик в кафе. В отдаленных окрестностях Рима редко появляются священные процессии, ксендзы и монахи не ходят толпами по пыльным дорогам между убогих хижин земледельцев; они не заглядывают к нищим камнетесам.
Его святейшество здесь не властен. Здесь вдруг прозвучит вольная песня, а вместо церковной латыни раздастся живая итальянская речь.
Сюда все чаще держит путь и русский музыкант. С Глинкой странствует московский знакомец Степан Петрович Шевырев. Шевырев знает в Риме каждый камень и в гладких речах, похожих на лекции, раскрывает перед любознательным соотечественником величие древнего города. Италия представляется Шевыреву не гробницей мертвой Джульетты, но вечной идеей прекрасного. Правда, идея прекрасного выглядит у Степана Петровича туманной, царящей над временем и людьми, но молодой москвич умеет делать и практические выводы из своих отвлеченных идей.
– Настало время преобразовать русский стих, – торжественно объявил Степан Петрович. Пусть не удивляется Михаил Иванович. Никто не знает таинственных недр, из которых рождается искусство. До времени никто не знает провозвестников, которые несут людям откровение. Может быть, ему, скромному труженику Степану Шевыреву, суждено оказать великую услугу русской поэзии. – Живя здесь, в стране воплощенной поэзии, – продолжал Шевырев и от волнения даже расстегнул пуговицу на жилете, – я устыдился изнеженности, слабости и скудости русского стиха. Одна божественная итальянская октава может спасти русских поэтов.
Степан Петрович кое-что, оказывается, сделал. Когда приятели вернулись с прогулки, он читал Глинке свои переводы из «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Итальяно-русские октавы Шевырева были неуклюжи и скрипучи. Но провозвестник новой эры в отечественной поэзии брал лист за листом и снова читал, упиваясь величием собственного подвига.
Глинка слушал и дивился: недавний поклонник самородного русского сарафана с большим рвением занимался подражанием итальянцам. Никто из молодых музыкантов, посетивших Италию, не впадал в столь жалкую ересь.
Чтения октав происходили на римской вилле княгини Зинаиды Волконской. Шевырев жил здесь в качестве воспитателя при сыне княгини. Волконская, памятуя о московских встречах, оказала Глинке истинно русское гостеприимство. Но это было и все, что осталось русского в русской княгине.
Вилла Волконской кишела католическими монахами. Тощие и толстые, наглые и смиренные с виду, невежественные и лощеные, ряженные в декоративные рубища и в роскошные шелковые рясы, они плели прочную паутину. Они ткали эту паутину с тем большим усердием, что княгиня все еще была богата. Они наперебой обещали привести заблудшую душу к единственно истинному, католическому богу. И торопились передать бренное имущество грешницы наместнику бога на земле.
Ознакомительная версия.