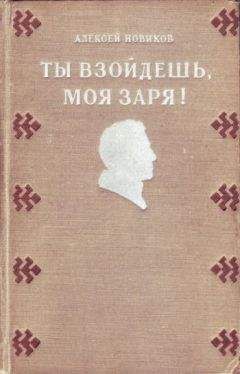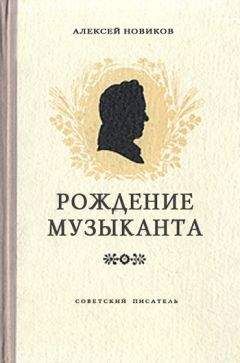Ознакомительная версия.
Искусство римской церкви в уловлении душ космополитично по своей природе. «Несть ни эллин, ни иудей», если намечается жертва во славу божию. Какое же другое искусство может процветать в столице римского первосвященника?
Михаил Глинка воочию увидел воинствующий католицизм: выдающийся талант Волконской обречен смерти во славу католического бога. Но что значила эта печальная повесть в сравнении с тем, что творилось в Риме на каждой улице, в каждом доме! Римский первосвященник и его слуги обещали людям жизнь во Христе и умерщвляли всякое проявление жизни нации. Единственной поэзией считалась молитва, единственной музыкой – церковный хорал, единственным языком – священная латынь.
То ли дело было на вилле Медичи! Здесь каждый вечер звучали песни. Молодые французы ниспровергали католического бога и с тем же усердием воевали против застоявшихся авторитетов. Здесь приветствовали каждого, кто посвятил себя искусству. Сам директор виллы Медичи господин Вернет радушно принимал русских артистов. На одном из вечеров Иванов исполнил романсы Глинки. Французы впервые слушали русскую музыку.
Экстраординарная программа приковала к себе общее внимание. Воцарилась тишина, совершенно необычная для обитателей виллы Медичи.
Иванов пел, ожидая обычных лавров. Но и после концерта никто не нарушил молчания. Это опять было чудом в собрании молодых французов.
– Черт возьми! – сказал после долгой паузы Гектор Берлиоз. – Эти прелестные мелодии совершенно отличны от того, что мне когда-нибудь приходилось слышать.
Он крепко пожал руку Глинке. Тут бы и начаться разговору о русской музыке, которая так поразила молодых стипендиатов Франции прелестью и новизной. Но пионеры, собиравшиеся прорубать в искусстве новые пути, были так заняты своими спорами, что, сочувственно прослушав музыку Глинки, снова обратились к извечным спорам. Речь держал, конечно, Гектор Берлиоз. У него были постоянные счеты с музыкальными ткачами Италии, Германии и Франции. Здесь прежде всего предвидел для себя яростные схватки будущий вождь новой романтической школы музыки.
Выступление русских артистов прошло бесследно. Иванов смертельно обиделся.
– Эти французы ничего не понимают, Михаил Иванович, – говорил он Глинке на пути к дому. – Не зря же итальянцы и итальянки бегают за мной по следам?
– Быстро привыкли вы, Николай Кузьмич, к воскурению фимиама. А нашим друзьям французам не до вас. У них, голубчик, все кипит. А когда перекипит, тогда и выйдет толк. Вот у римлян давным-давно постом и молитвой остудили священный пыл души.
Глинке стало нестерпимо в Риме. Он не срывал с шеи галстука, когда говорил о жалкой участи искусства в государстве папы римского, но, взяв с собой Иванова, он бежал из Рима в Неаполь.
В Неаполе сидел на мишурном троне карликовый король. К воинствующему католицизму присоединялась власть этого карлика, боявшегося больше чем смерти объединения Италии.
Искусство и здесь было лишено главной вдохновлявшей идеи – права говорить о национальных чувствах. Маэстро избегали глубоких идей. Даже ученый контрапунктист Неаполя Пьетро Раймонди оказался на деле автором пошлых опер.
Неприглядное состояние искусства открывалось перед Глинкой в каждом городе. Столица неаполитанского королевства не представляла исключения. Но недаром же зачастил русский музыкант в маленький, неведомый иностранцам театр Сан-Карлино. Безвестные актеры на красочном неаполитанском наречии разыгрывали там народные комедии. Глинка следил за бесконечными похождениями Пульчинелло, приправленными сочным юмором и неисчерпаемым оптимизмом. Вдали от чужеземных и собственных властей народное искусство продолжало жить своей жизнью.
В Неаполе Глинка нашел наконец тех учителей пения для Иванова, которых до сих пор тщетно искал. Особенно пришелся ему по вкусу старый синьор Нозарри. На первом же уроке, прослушав Иванова, он сказал ему:
– Помните: сила голоса приобретается от упражнения, а раз утраченная нежность погибает навсегда.
Этому учителю Глинка мог поручить окончательную шлифовку драгоценного голоса Иванова. Он нашел наконец редкого мастера.
Слух о русском певце очень быстро разошелся по городу. Какой-то придворный живописец представил его королевскому двору. Иванову был назначен дебют в оперном театре.
– Ну-с? – спрашивал Глинку Николай Кузьмич. – Не говорил ли я вам, что только в Италии способны оценить талант?
– Вы, кажется, забываете, что первое признание получили на родине, – отвечал Глинка.
– На родине?! – возмутился Иванов. Он уже забыл все, что сделал для него Глинка. – Нет, Михаил Иванович, у каждого артиста есть одна родина – Италия.
– Стало быть, вы отрекаетесь от России?
– И буду счастлив, если мне перестанут о ней напоминать.
– Пропащий вы человек! – резко сказал Глинка.
– Как это понять?
– Очень просто, – объяснил Глинка. – Певец из вас выйдет, артист – никогда!
– Странное дело, – говорил Глинка Соболевскому, вернувшись в Милан. – Берутся итальянские оперисты за любой бродячий сюжет: тут тебе и аглицкая история «Анны Болены», и немецкий «Фауст», и древняя «Весталка», и таинственная «Сомнамбула»… Можно насчитать десятки опер, а национального сюжета не найдешь.
– Запретная, Мимоза, для итальянцев тема: нельзя дразнить гусей.
– В особенности римских? – Глинка улыбнулся. – А поговори с любым итальянцем – так и сверкнет глазами при одном имени отечества.
– Кстати, – перебил Соболевский, – разыскал я на днях редчайший документ. Здешние карбонарии тайно расклеивали его на улицах Милана. – Соболевский достал из бокового кармана подпольную, пожелтевшую от времени прокламацию и прочитал: – «В Милане появился человек, который, к общему удивлению, имел наглость назваться не миланцем, и не сардинцем, и не пьемонтцем… Он заявил, – о, ужас! – что он просто итальянец!..» Самое страшное преступление карбонариев в глазах австрияков!.. – – заключил Соболевский.
– И главная дума, которой живет итальянский народ! – горячо откликнулся Глинка. – Не удивительно, что в Милане чтут заветы вольнолюбивых «угольщиков». Народная мечта об Италии, освобожденной от чужеземного ига, непременно осуществится… Когда-нибудь и музыканты Италии придут к национальным сюжетам. А до тех пор надобно бережно собирать те крохи народной музыки, которые появляются у итальянских оперистов.
– Уж не тем ли ты и занят?
– Отчасти, – коротко подтвердил Глинка.
Он, конечно, был занят итальянской музыкой. Отсутствие национальной героической темы в итальянском искусстве было поразительно, но понятно. Австрийский император, римский первосвященник, неаполитанский король и другие мелкие властители были в союзе против итальянского народа. Искусство, лишенное идейной, патриотической основы, должно было неминуемо зайти в тупик. Музыка не составляла исключения. Народ-воин, народ-гражданин, народ-созидатель, народ, готовый к защите своего бытия против хищников, – такой народ, не появлялся на оперной сцене.
Глинка, начавший свое путешествие по Италии с глубокого знакомства с народной музыкой, хорошо видел, как далека от жизни народа ученая музыка. Но он не отмахнулся от нее с пренебрежением. Он отмечал в операх итальянских маэстро все, что связано с народными напевами, и, бережно собирая эти крохи, верил в будущее. Когда-нибудь и итальянская музыка заговорит языком народных героев.
Русский маэстро старается представить себе, каков будет этот музыкальный стиль. А воображаемое ложится на нотные строчки. Сергею Соболевскому, единственному другу на чужбине, пришлось первому из русских услышать новую итальянскую арию, сочиненную Глинкой:
В суде неправом
Решен мой жребий…
И столько мощи и ненависти к насильникам было заложено в этих звуках, что Соболевский с удивлением развел руками.
– Никогда не слыхал ничего подобного в здешних театрах, – сказал он, – и, признаюсь, вряд ли услышим.
– Не мы с тобой, так другие услышат, – уверенно отвечал Глинка. – Не всегда будут глухи музыканты Италии к песням, которые поют в народе, когда нет поблизости начальства. Ты здесь вот этакую песню слыхал?
И он напел:
О, милая! Дай мне эту ветку!
Я спрячу ее на сердце.
Когда пойду в бой за отчизну,
Твой талисман спасет меня
От австрийских пуль.
Глинка снова вернулся к фортепиано и повторил сочиненную им арию.
– На мое ухо, – сказал Соболевский, – ничуть не похожа твоя ария на эту песню.
– Еще бы! – Глинка засмеялся. – Я бы и сам не мог тебе сказать, какие песни и сколько их отлилось в моей арии. Думается, однако, что ни в чем я от итальянского духа не отступил. Разве что вперед глянул.
Но все-таки эти пробы не были главным занятием русского маэстро. Главное еще не отражалось на нотных листах. Но пребывание в Италии еще больше убедило Глинку в том, что будущая его опера, которой он послужит отечеству, будет прежде всего национальна и народна. Музыка не может существовать без коренных идей, которыми живет народ. Тут ему приходилось судить не только итальянских оперистов. «Волшебный стрелок» Вебера не многим больше приблизился к воплощению главного в народной жизни. Михаил Глинка еще раз готов отдать все оперы Моцарта за одного «Фиделио» Бетховена. Почему? Ответ ему ясен. В заключительных хорах «Фиделио» ожил подлинный народ, с его страданиями, борьбой и вольнолюбивой мечтой. Но как еще тесно народу и в этой опере, построенной на любовной интриге!
Ознакомительная версия.