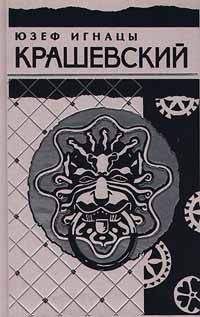Кристиана стражу. С князем, который не хотел себя подставлять, не будучи уверенным в успехе, был уговор, что будет ждать новость в безопасном месте.
Когда всё было закончено и даже гарнизон, взятый в плен, связали и спрятали в подземелье, к нему отправили посланца.
Князь приехал с трудом дыша, весьма разгорячённый и довольный. Закрепилось в нём это слово Фриды, которое он обещал себе взять за указание и быть ему послушным, – слово, рекомендующее неумолимую суровость. Теперь все свои неудачи он приписывал излишнему послушанию и снисхождению. В течение всего времени, когда ехал в замок, он давал себе самому самое торжественное слово, клялся, что будет террором, будет ужасным тираном – раз, к несчастью, иначе нельзя быть завоевателем.
Первый пример этой суровости он хотел сразу показать на Кристине из Скрипова. Он ни в чём виноват не был, но как шурин Судзивоя из Шубина, к которому Владислав пылал сильнейшей жаждой мести, должен был расплатиться за него.
Рядом с Белым был один Бусько, с которым он мог говорить открыто; чувствуя необходимость излить душу и похвастаться, он обратился к нему.
– Слушай, Бусько? Что делать со старостой Кристином? Повесить его? Гм?
– Панечку… ради Христа Спасителя, за что?
– За что? Он негодяй, пёс, подлец! Он угрожал мне, бесчестил, называл негодяем. Есть люди, которые слышали! – воскликнул горячо Белый. – Достаточно, что он шурин Судзивоя… за это должен висеть.
Бусько покрутил головой.
– Милостивый пане, – сказал он, – как вы начнёте вешать, так они и нас потом будут тянуть вверх. А, упаси Боже, меня возьмут…
Князь по-своему задумался.
– Панечку, – сказал Бусько, – от повешения никому нет пользы… разве что воронам и червям. Не лучше ли взять выкуп, а сейчас посадить его в темницу?
– Ради Бога! Ты умный! – крикнул князь. – Бросить его закованного в узилище – и пусть Судзивой спасает мужа сестры… шестьдесят тысяч…
Бусько рассмеялся.
– Он столько не стоит, – сказал он, – я бы его за пятьсот отдал, подержав голодом.
Белый ничего не отвечал, потому что как раз стоял у открытой двери.
Прекрасное августовствое утро освещало картину, которая глазам князя могла показаться очень красивой. Она действительно была живописной.
У открытых ворот, решётка которых была поднята, стояла группа весёлых, смеющихся, выкрикивающих людей.
Кто бы не знал, из чего состояло войско Белого, поглядев на этот сброд, с легкостью узнал бы беглецов, бродяг, смутьянов и босяков, стянутых с трактов и лесов.
По правде говоря, только лишь самые достойные дворы и полки в то время могли похвастаться однотипным вооружением и одеждой, но даже самый жалкий двор беднейшего землевладельца чище и приличней выглядел, чем сброд Владислава.
Ни ростом, ни лицами, ни цветом кожи, ни фигурой почти двух не было похожих друг на друга; только бродяжничество, скитание по лесам, неудобства и бедность делали их родственниками. Ни на одном не было целой епанчи, не помятого колпака, не побитых доспехов, а вооружение у каждого было различное, жалкое, топорики, мечи, кое-какие цепы, скреплённые цепью, старые копья, луки собственной работы, щиты из дерева, жалко обтянутые шкурами, которые сами на ветру сделались.
На ногах, ободранных от кожаных башмаков, от лаптей и ходаков, через которые выглядывали пальцы, – там было всё, кроме приличной обуви.
Двое или трое хвалились железными горшками на голове, старыми, без носов. У кого-то головы были обвязаны платками, из-под которых были видны взлохмаченные волосы.
Среди этого особенного сборища менялись и светлые волосы, как льняные кудри, и чёрные, как смола, и стриженные, и длинные, так же как рост от самого огромного гиганта до приземистого карлика.
Хотя при взятии Золоторыи ни до какого кровопролития не дошло, некоторые из них были перемазаны застывшей кровью, кто-то имел свежие шрамы и залепленные зелёными листьями раны. Стоя довольно долго в лесу, этот сброд, который кормили и поили стараниями Фриды, при костях и при мисках, дрался и убивал друг друга; начальство едва их могло удержать от этого.
Всё это в диком лесу, в полутени и сумраке могло показаться менее страшным, менее омерзительным, но сейчас, белым днём, в блеске зари – было отвратительным.
Князь, поглядев на это своё войско, командиры которого, за исключением Дразги, выглядели не лучше, покраснел от позора, сердце его сжалось, он был унижен тем, что опустился до таких проходимцев. Он, что на императорском, папском, Людвига и стольких других дворах насмотрелся на красивых рыцарей и сам любил изысканность, будучи вынужден пользоваться этими разбойниками, собранными в лесах, почувствовал в сердце гнев на тех, кто были причиной его падения. Ему также пришло в голову, как он с таким сборищем человеческих отходов, изъятых из мусорки, сможет противстоять войску Судзивоя и короля Людвика? Как сможет сохранить среди них порядок и дисциплину?
На крик, которым они его приветствовали, князь едва отвечал гордым кивков головы, дал коню шпоры и, проехав мост, влетел во двор.
Там, ещё не спешившись, он грозно позвал старосту Кристина.
Дразга, стоявший тут же, ответил, что он спит пьяный, и у его двери стража.
– Немедленно заковать его и бросить в самую глубокую темницу… на хлеб и воду… пана шурина воеводы.
Из окна замка услышала этот ужасный приговор старая жена и с криком боли, с заломленными руками выбежала к князю, бросаясь перед ним на колени. Вся в слезах, наполовину бессознательная женщина возбудила бы сострадание в каждом, и князь тоже был бы к ней милосерден, если бы недавно не поклялся себе, что будет жестоким. Отворачивась, он приказал слугам взять её под руку, увести вон и запереть.
Доносились стоны и рыдания, но князь был в таком расположении, что эта боль сделала его ещё более свирепым. Он также вспомнил, что эта женщина была родственницей Судзивоя.
– Запереть и эту бабу, – воскликнул он, – чтобы я не слышал её крика.
Когда это случилось во дворе, слуги, которым дали приказ заковать старосту, бросились на него со скотской радостью, сбросили спящего с кровати и едва проснувшегося начали тормошить, толкать, издеваться, связывать, крича, цепями.
Кристин не мог прийти в себя. Один из слуг вылил ему на голову ведро воды. Его душераздирающие крики доходили прямо до двора. Эти крики, с которыми смешивался смех мучителей, лязг мечей, звон кандалов, совсем не поразил Белого. Ему казалось, что только теперь пошло так, как должно было.
Бусько, который, скатившись с коня, пошёл под стену вытирать со лба пот, смотрел на своего князя и не мог его узнать. Он был чрезвычайно активен, сам во всё вмешивался,