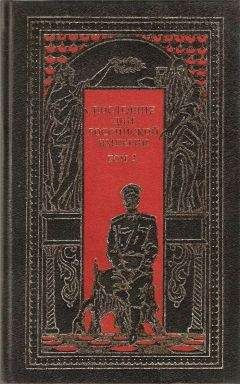Кубанцы торговались за власть. Они не хотели покоряться добровольцам, но признали власть Корнилова, и Добровольческая Армия стала втрое сильнее.
Пошли на Екатеринодар.
Шли горами. Мягкие отроги Кавказских гор бесконечными цепями спускались в степь и расплывались в ней. По краям балок росли кустарники, в низинах было болото, ручьи журчали по каменным блестящим скалам, по мокрой топкой земле.
15 марта густой низкий туман окутал землю, и шёл мелкий пронизывающий дождь. Без песен, промокшие насквозь, густыми рядами шли добровольцы по грязной теснине, спускаясь к бурной вздувшейся реке. Моста не было. Передовые дозоры, молодые офицеры, помялись на берегу и потом решительно пошли в воду и провалились по горло… За ними пошла колонна. Потом обоз. Сёстры и легко раненные, которые могли стоять, вставали на телегах и стояли, держась друг за друга. Ледяная вода заливала ноги, мочила и сносила солому из телег, от толчков люди падали, лопались повязки, открывались и сочились кровью раны. Тяжело раненные, больные, в лихорадочном бреду, въезжали в реку, вода мочила их спину, поднималась до боков, на секунду захлёстывала белые страдающие лица, заливала большие воспалённые, лихорадочные глаза…
— Пошёл, пошёл! — кричали в ужасе доктора и санитары.
— Господи! Что же это такое! — говорили сёстры в мокрых юбках и кофтах, сами падая на телеги и стараясь приподнять над водою головы умирающих.
Раненые не стонали. Что испытывали они в эти мгновения кошмарных грёз, претворённых в явь, никто не знал и не мог передать!
За рекою был крутой глинистый подъем с наезженными красными колеями и со скрипящими под ободом колёс круглыми камнями. Когда поднялись, широкая степь развернулась за балкой. Был перевал. По перевалу гулял ледяной ветер. Дождь сменился снежной пургой, и температура упала на несколько градусов ниже нуля. Мокрые шинели, мундиры, рубахи, шаровары, сапоги, обмотки в несколько минут замёрзли и ледяным панцирем покрыли людей. Офицеры и солдаты стали останавливаться, казалось, вот-вот они замёрзнут, и степной мороз остановит биение сердца Добровольческой Армии.
— Хороши, господа панцирники! — вдруг весело воскликнул Ника и ударил кулаком по груди брата. Лед треснул и шинель стала ломаться.
— Так, так! Тузи друг друга! Согревайтесь, господа! Прыгайте, бегайте, — кричали пятидесятилетние генералы и сами дрались и возились, как дети.
— Вперёд! Вперёд!
Дружно, корниловцы, в ногу!
С нами Корнилов идёт.
Вспыхнула песня и, ширясь, понеслась к небу. Могучая воля человека, частица Божества, торжествовала над жестокой природой.
Опять спуск. Опять несущаяся в стремнине река, пена, кипящая у камней и в излучинах у тёмных берегов, неведомая глубина и холод.
Послали двух пленных искать брода и нашли по грудь в воде.
Красивый молодой генерал, в белой папахе, в чёрных погонах Добровольческой Армии, с улыбкой на лице, как будто бы собираясь сделать какую-то шалость, уверенными ловкими шагами хорошо тренированного человека, по обледенелому спуску сошёл к реке и пошёл, раздвигая руками ледяную воду. За ним спокойно пошла колонна.
— Сы-ро-ва-то! — блестя весёлыми глазами, сказал на середине реки генерал и улыбнулся счастливой улыбкой. В этой улыбке помимо его воли отразилось неосознанное счастье совершаемого подвига, и с губ его сорвалось слово, ставшее историческим.
С этого дня имя генерала Маркова, уже известное добровольцам, как имя бесстрашного и смелого генерала, стало на устах у всех как имя человека, шуткою победившего природу.
— Да, сыровато, — дрожа и булькая, повторил его маленький сосед, захлёбываясь в потоке, и, когда вышли наверх, на перегиб горного хребта, на ледяной ветер, когда обмёрзли снова и готовы были пасть духом, услыхали недальние выстрелы и увидали в рассеивающемся, гонимом ледяным ветром тумане, летящем над горами, как клочья паровозного дыма, так знакомую фигуру Корнилова. Он, обледенелый, как и все, скакал вперёд на выстрелы.
К ночи вошли с боем в большую Ново-Дмитриевскую станицу и всю ночь по улицам её гремели выстрелы: добровольцы выгоняли большевиков из тёплых хат и вели кровавый бой за каждый угол, где бы можно было обогреться, приютить и накормить раненых.
Два дня, 17 и 18 марта, у Ново-Дмитриевской шёл бой, и раненых сушили, перевязывали, а умерших хоронили под звуки то затихавшей, то начинавшейся снова орудийной канонады, ружейной и пулемётной трескотни.
Оля устремляла глаза к небу и, забывая, что она и холодная, и голодная, и мокрая, молила об одном: «Господи! Когда, когда же конец всему этому!..»
И во всём отряде стала одна мысль, одна мечта: — Екатеринодар…
Одним он рисовался в виде тёплой хаты с мягкой постелью с перинами и подушками. Над постелью висят иконы, горит лампадка. Тепло, сухо, сытно и можно спать, сколько хочешь. Другим виделись хорошо обставленные комнаты, ярко горящее электричество, ванна, чистое, охотно одолженное каким-то неведомым богатым екатеринодарским жителем белье, хороший обед — этакий настоящий малороссийский борщ с бураками, красный, с жирными сосисками, кусками ветчины и сала со шкурой, графин водки, курица с соусом, какие-нибудь оладьи или ватрушки со сметаной. Третьим грезился кинематограф, обрывки томящей душу музыки на пианино, пёстрая вереница картин, говорящих о какой-то чужой, спокойной, яркой жизни, где нет бесконечной степи, перевалов, ручьёв, ледяного ветра, голода и холода, где не видно косых недружелюбных взглядов, где не нужно расстреливать комиссаров, где не стонут раненые… Четвёртым грезилась встреча с теми, кто был тут недалеко в обозе, кто думал о них и о ком думали и кого не удалось видать во все эти жуткие дни. Пятые мечтали о прекращении мятущих душу кошмаров, которые схватывают в лихорадочном бреду и идут не прекращаясь, но все усиливаясь и наяву. И не знали они, что было кошмаром и что явью. Кошмаром ли был горный поток, подхвативший подводу и унёсший из-под наболевшего тела солому, сделавший мокрым шинель и одеяло, и явью были какие-то светлые духи, летавшие перед глазами, распростёршие серебряные крылья и певшие неведомую песню блаженства…
Все мечтали об отдыхе от боев, о том, чтобы оправиться и сорганизоваться, одеться и вооружиться и тогда воевать.
27 марта подошли к Екатеринодару и с мужеством отчаяния осадили его своими небольшими силами.
О! Эти думы!.. Думы без конца… Думы о любимом… Он простился вчера вечером, забежав на минуту к лазаретной хате, и сказал то, что давно было на его устах и чего, не сознавая того, ждала и хотела Оля.
День был солнечный, радостный, весенний. Было тепло, пахло землёю, и трава выпирала тонкими иголками из земли, а почки на кустах сирени пухли на глазах. Днём переправлялись через Кубань, и был бой у Елизаветинской. Оле кто-то сказал, что Ермолов убит. Остановилось сердце, и руки беспомощно опустились. Оля не могла больше работать. Она вышла из хаты, села на рундук у заднего крыльца и смотрела вдаль. Сзади догорало в степи солнце, и спускался золотой полог над голубеющей степью, перед нею был небольшой сад с молодыми вишнёвыми деревьями и яблонями со стволами, обмазанными белою извёсткой. В углу, в сарае, копошились на насестах куры и недовольно клохтали, точно спорили из-за места. Свежею сыростью тянуло от земли. На мокрых дорожках отчётливо были видны маленькие следы — Олины следы. Она ходила к забору и смотрела на туманное пятно внизу, пятно густых садов, пирамидальных тополей, домов и церквей. Это Екатеринодар, который добровольцы пойдут завтра брать.
Так много за эти дни было смертей, страданий и мук, что, казалось, притупилось, огрубело и закалилось сердце. После ледяного похода на её руках умер мальчик-гимназист, высушить его серую шинельку со светлыми пуговицами так и не удалось. Он все звал маму, все просил затопить камин и согреть и обсушить его платье. «Мама! — говорил он, — я больше не буду. Я никогда, никогда больше не буду купаться в одежде».
«Где его мама!? Кто его мама? Знает ли она о том, что его зарыли на окраине станицы, там, куда не долетали пули? Найдёт ли она его? И как найдёт?»
Умер суровый и хмурый Беневоленский. И не мучился долго. Принесли его с разбитою прикладом грудью. Он харкал кровью и поводил по сторонам глазами. Все хотел что-то сказать и не мог. И только перед самой смертью он наконец выговорил: «Здесь не удалось отомстить — отомщу на том свете… вот»… И затих.
В конной атаке убита шрапнелью баронесса Борстен, легендарный палач комиссаров и коммунистов.