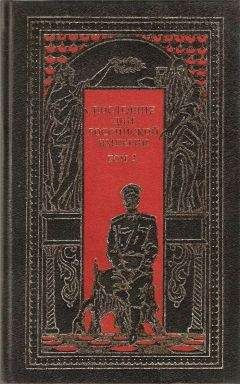Ермолов сказал последние слова глухим голосом. Мука звучала в них.
— Дают пополнения. А того не понимают, что Корниловскому полку пополнения должны быть особые, а не необстрелянные мальчишки. Нельзя позорить светлое знамя Корниловского полка. Нежинцев это понимал. Ольга Николаевна! Идея Добровольческой Армии — это идея России. Борьба чистоты и правды против насилия и лжи… А я боюсь… если так будет дальше… у нас будет… Тоже ложь…
Ермолов закрыл лицо руками. Он, казалось, плакал. Но, когда он оторвал ладони от глаз, глаза были сухи.
— Корнилов приезжал. Он стал на колени над Нежинцевым, поцеловал его и перекрестил. Мне пришлось провожать Корнилова и остаться при нём до вечера… Мы все обречённые на смерть. И он обречённый…
Оля взяла руку Ермолова и тихо гладила её своею ладонью.
— Ольга Николаевна… Я покаяться пришёл. Я сегодня поймал себя на подлой мысли… Неужели я… шкурник…
— Что вы, Сергей Ипполитович… Придёт же в голову!..
— А вот, слушайте… У Корнилова наблюдательный пункт на ферме. Ферма — одноэтажный домик в три окна по фасаду, стоит над обрывом реки. Фруктовый сад подошёл к самому обрыву, а внизу весь Екатеринодар. Бой идёт в садах. Красная артиллерия ведёт ураганный огонь. Я насчитал семьдесят пять выстрелов в минуту. Мы молчим. Отвечать не из чего. Пушек почти нет, снарядов мало… Смотрю я на Екатеринодар, и вдруг мне так ясно стало, что в Екатеринодар нам войти нельзя. Екатеринодар — это ловушка. Войдём мы в него, — нас теперь и четырёх тысяч нет, — и погибнем там… Не удержимся. В уличном бою растаем. И тут я посмотрел на Корнилова. Он страшно исхудал. Чёрные седеющие волосы прилипли к жёлтым вискам. Нос обострился, глаза ввалились и из глазных впадин, прищуренные, узкие, острые глядят несокрушимою волею. Понял я, что он решил войти во что бы то ни стало. И он войдёт. И себя погубит и нас погубит, но войдёт… Я понял его… И вот тут-то…
Ермолов шёпотом скороговоркою договорил:
— Я подумал… А если бы его не стало… Если бы его убило… Он умер бы… Но спаслась бы Добровольческая Армия. Спасена была бы идея… Я спасён бы был… А?.. Что!.. — нервно вскрикнул Ермолов… — ведь это… Это… Ведь я же шкурник… Такой же, как Митенька Катов, как все те тыловые герои!!.
— Успокойтесь, Сергей Ипполитович. Это минутная слабость… Это нервы…
— Не говорите мне, Ольга Николаевна, — нервы. Да, всё нервы. И у Митеньки Катова — нервы. Человек оставляет позицию, человек бежит с поля сражения, человек мародёрствует… Это… Нервы… Нет! Нет! Бичуйте меня, Ольга Николаевна, назовите меня трусом. От вас я всё снесу! И мне легче станет.
— Именно вам я никогда этого не скажу, — сказала Оля. — Я глубоко верю в вашу доблесть, я знаю и видела вашу храбрость… Я… люблю… вас…
Жёсткая, грубая рука сжала её маленькую огрубевшую руку.
— Ольга Николаевна!.. Это не шутка… не фраза… Не нарочно сказанное олово. Для утешения…
— Нет, нет, — горячо сказала Оля, ещё крепче сжимая его руку, — я сказала, что думала, что чувствую. Я никогда не лгу.
— Тогда и я скажу вам… Мы особенные люди и нам можно отбросить условности света… Мы люди без будущего. У нас и прошлое убито… Только сегодня… ни вчера, ни завтра… Ольга Николаевна, я полюбил вас тогда, когда вы пришли к нам в Ростове на этапную роту. Помните, как вы остались стоять на Таганрогском проспекте и я вышел к вам, прося зайти обогреться. Вы шатались от усталости и голода. Вы доверчиво оперлись на мою руку и прошли в наше помещение. Я угощал вас чаем…
— О! Какая я была тогда ужасная!
— Потом, помните, я устроил вам две комнаты для вас и братьев. С тех пор я только и думал о вас. Я знал, что нельзя этого делать, знал, что ни к чему это, а вот… думал… думал… Разве сердцу запретишь. Молодое оно… Никого не любило…
— Ну хорошо! Ну хорошо!.. Милый, — ласково сказала Оля, когда Ермолов поднёс её руку к губам и горячо поцеловал её. Слёзы упали на руку. Так странно было чувствовать, что сильный богатырь Ермолов плакал.
— Так вот… Слушайте… Что может предложить, о чём может просить обречённый на смерть?.. У меня ничего нет. Прошлое — прошло. В настоящем — эти прекрасные миги сегодняшней ночи… В будущем — смерть! Ну… и пускай смерть! Но если я буду знать, что вы, Ольга Николаевна, любите меня… солдата… добровольца… То мне и умирать станет легко.
Тонкая девичья рука крепко охватила его шею. Пухлые губы до боли прижались к его губам.
— Ну, милый! Зачем так?! А Бог!
— Да, Бог! — сказал Ермолов.
Оля сняла с шеи маленький золотой крестик. Она перекрестила Ермолова, и лицо её было серьёзно, как у ребёнка, когда он молится.
— Он сохранит вас! — сказала Оля и одела крест на шею Ермолова. — Носите его и помните: он сохранит вас.
Долго они ничего не говорили. Он не выпускал её руки из своей и смотрел в её лицо. Большие, отразившие блеск звёзд глаза Оли были темны и блестящи. Взглядом своим она вливала в него мужество своей девичьей русской души.
— Я пойду, — сказал, наконец, Ермолов. — Пора. До свиданья.
— До свиданья… Любимый…
Оля обняла Ермолова и поцеловала его.
— Да хранит вас Господь!
Ермолов стал спускаться по тропинке, направляясь в долину, где ещё горели огни Екатеринодара.
Оля осталась на краю обрыва. Она молилась и думала: «Господи! Спаси его!..»
Утро занялось совсем летнее, тёплое с голубыми туманами над рекой, с золотом горячих лучей, бросающих длинные прохладные тени, с духом крепким и бодрящим. С первыми лучами солнца загремела артиллерия большевиков. Сёстры и беженцы толпились на краю станицы, прислушиваясь к бою. Он шёл пятый день. Все знали, что маленький отряд Корнилова дошёл до полного утомления. Около половины офицеров, казаков и солдат было ранено и убито. Снаряды и патроны были на исходе, свежих сил не было. К большевикам подходили подкрепления, и вся «армия» Сорокина была в Екатеринодаре и подле Екатеринодара.
— Возьмут сегодня Екатеринодар, — сказал Катов, чисто вымытый и хорошо одетый, выдвигаясь из кучки санитаров. — Уж у меня такое предчувствие, чутьё такое, что возьмут.
— Дал бы Бог, — проговорил старый кубанский казак. Из-под густых, кустами, седых бровей он остро и зорко следил глазами, как плотнее садился в долину туман и обнажались колокольни и купола собора, крыши вокзала и зданий Владикавказской дороги. — Дал бы Бог. У меня три внука в обход с Эрдели пошли. Да вишь и четвёртый-то дома не сидит, все просится… — он показал на мальчика десяти лет, бодро стоявшего подле него. — А только, взять-то возьмём, да удержим ли? Сила-то его большая, да и народ кругом подлец.
Оля, стоявшая тут же, задумалась. «Не тоже ли самое говорил ей вчера Ермолов? Если в Екатеринодаре погибнет Добровольческая Армия, то что же делать! Что делать с ранеными, с самими собой!»
— Как бьёт по ферме, — сказал раненный ночью офицер. — Вчера там был штаб Корнилова. Хорошо, если сегодня его нет там.
— Где это? — спросили несколько человек.
— А вон, глядите, над Кубанью. Так и засыпает… Вон видите маленький белый под железною крышею домик с двумя трубами. Сад кругом.
— Я вижу в бинокль его значок. Он покосившись стоит прислонённый к кустам, — сказал Катов. — Ну да, конечно, это его флаг. А вот сейчас… Не вижу… он упал…
— Упал значок Корнилова?.. — с ужасом в голосе спросил раненый офицер. — Упал наш Русский флаг?!
— Ну да что же особенного? Лежит, должно быть, в пыли…
— Боже! Боже! Что же это такое! А людей вы не видите?
— Нет, они, верно, за домом. Да чему вы так взволновались?
— Нет, ничего… Это так только. Я… загадал.
Люди приходили и уходили. Сёстры заглядывали к раненым, поправляли подушки, давали воду, хлопотали о чае. Внизу неровно шёл бой. Не было той постоянной стрельбы, которая была все эти четыре дня, но перестрелка вспыхивала в садах на несколько минут, вялая, безжизненная, и сейчас же обрывалась. Точно обе стороны не желали больше воевать.
— По-моему, — сказал Катов, — вчера перестрелка была глубже в улицах. Сегодня она больше по окраинам. Не отошли ли наши?
— Сегодня наши должны взять Екатеринодар, таков приказ Верховного, — вяло сказал офицер с перевязанною рукою.
От Екатеринодара подходили люди. Это были любопытные, подошедшие от станиц на разведку, раненые, могущие сами добраться до перевязочного пункта, но между ними попадались и здоровые добровольцы. Они подходили к обозам и садились подле телег. Их лица были землисто-серые, безжизненные, глаза смотрели в землю. Они неуверенными движениями доставали табак, сворачивали папиросы и закуривали. И по тому, как двигали они руками и ногами, вяло и машинально, можно было понять, что голова их не тем занята.