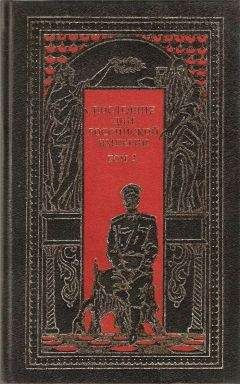— Корнилов убит…
Кто сказал? Никто не заметил, но все услыхали. Посыпались вопросы.
— Нет, ранен, — сказал кто-то, не поворачивая головы.
— Убит, — сказал длинный кадет с совершенно иссохшим лицом. — Только скрывают. Я сам видал. Умер. Лежит на берегу Кубани.
— Как? Где?.. Вы сами видали?.. — раздались голоса. Кое-кто ближе пододвинулся к кадету.
— Ну даже!.. Пропала Россия… И флаг его, трёхцветный… Святой Русский флаг за фермой, в пыли лежит, весь грязью запачканный… Никому не нужный!.. Пропала Россия, — со слезами в голосе воскликнул раненый офицер.
— Да, постойте! Говорите же толком!.. Вы сами видали? Где же вы были?
— А подле фермы. Я помощник телефониста.
— Но позвольте, кто же вам позволил уйти? — грозно спросил Катов. — Это, молодой человек, дезертирство!.. Да! Вы ответите!
— Оставьте, право, — бледным усталым голосом сказал юноша. — Вы же ничего не понимаете. Наши отходят уже… Не к чему драться.
— Да скажите, в чём дело? — спросил раненый офицер.
— С утра начался его обстрел, — печально заговорил кадет. — По ферме бил. Он ещё с вечера пристрелялся. Штаб перевели ниже. Просили Корнилова перейти. Он остался. Он уже, господа, мёртвый был.
— Как? Да что вы говорите!
— То есть он ещё живой был, но как бы мёртвый. Я ночью пять раз ему телефонограммы подавал. Он все ходит и чай пьёт. На меня посмотрел — так, ей-Богу, господа, я много ужасов видал, а такого взгляда не забуду. Он на меня смотрит, а видит совсем не меня. Он уже, что там видит.
— Просто, устал человек, замучился, — сказала сестра Валентина.
— Нет, сестрица. Нет, я точно видел. Особенный это взгляд. Это не усталость!
— Ну… Дальше.
— Часов около шести сменялся патруль около фермы. И сейчас же начался и обстрел. Значит, заметили они патруль. Ведь, господа, там всего три версты до него было. Прилетело несколько шрапнелей, лопнуло — недолёт дали. Только пули, слыхать, пропели. Вторые закопались сзади фермы, значит: в вилку взяли… Вышел генерал Деникин и говорит другому генералу: «Ну, тут нечего дожидаться! Дело ясное!» И спустились они под горку, к реке. На откосе сели. За ними генерал Богаевский с адьютантом своим вышел, тоже сел с Деникиным. Я посмотрел: вижу флаг его стоит прислонённый к кустам и так от сотрясения, или что, вот-вот упадёт. Я и подумал: «Надо крепче поставить, а то не хорошо: Русский флаг и в грязи…» Да… А тут взрыв в самой ферме. Мы так и ахнули. Адьютант Верховного, Долинский, выбегает. Трясётся весь. Голос дрожит… «Верховный… Верховный», а что Верховный — и не сказал. Опять убежал в хату. Ну тут казаки и туркмены бросились. Долинский с туркменским офицером Резак-беком выносят Корнилова, крови нигде не заметно, только лицо белое, как у покойника. Понесли на берег. За доктором послали… Пришёл доктор, осматривал его долго. Потом… вижу: все шапки сняли… Крестятся… Ну, я понял… Кончился. Пошёл к его флагу. Гляжу: лежит в пыли, грязи… Знамя наше святое… Телефон разбило… Ну я пошёл… Слышу только: Деникин командование принял. Алексеев приехал. Он ему так и сказал: «У нас, мол, давно с Лавром Георгиевичем это условлено, ежели что случится…» Алексеев промолчал.
Раненый офицер порылся на груди, достал ржавый, старый, истёртый кожаный бумажник и вынул из него вырезку из газеты.
— Исполнил генерал Корнилов то, что давно решил, — торжественно сказал он. — Помните, что сказал он в августе: «Тяжёлое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные дни призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины, всех — у кого бьётся в груди русское сердце, кто верит в Бога, в право, в храм… Предать Россию в руки её исконного врага и сделать народ рабами немцев я не могу, не в силах, и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама Русской земли…» И года не прошло. Корнилов умер! Ужели нам придётся увидеть позор и срам Русской земли?
В станицу въехал казачий офицер.
— Господа! — сказал он, ни к кому не обращаясь, — собирайте обозы и легко раненных, которые могут идти сами и кого можно везти рысью без перевязки… Приказано отступать от Екатеринодара.
— Куда? — спросили несколько человек.
— Туда! — неопределённо махнул рукою казак. Лицо его выражало отчаяние.
— А тяжело раненные? — спросила сестра Валентина.
— Главнокомандующий приказал оставить на попечение жителей. Взяты заложники…
В сумерках Корниловский полк проходил через станицу. Он шёл, как всегда, в полном порядке, но без песен. За полком ехала казачья парная фурманка, на ней, на соломе, закутанное в шинель лежало тело Корнилова. Караул сопровождал тело.
Оля только что покончила погрузку раненых своей хаты и пропускала полк, чтобы ехать за ним.
Маленьким показался он ей. Поредели его ряды. Вот то отделение, где идут её братья и с ними рядом должен идти Ермолов. Но его нет. Братья идут одни. Их лица серы, скулы выдались, щёки запали. У Павлика один сапог разошёлся совсем и перевязан тряпками. Они смотрели вниз и не видали Оли.
— Ника, Павлик, — окликнула их Оля. — А где Ермолов?
Павлик мрачно посмотрел на сестру и точно не узнал её, прошёл мимо. Ника вышел из рядов.
— Собирайся, Оля, и поезжай, — сказал он.
— Где же Сергей Ипполитович? — воскликнула Оля.
— Да что тебе в нём! Мы все конченые люди. Раньше, позже, не всё ли равно.
— Ника! Что с ним?..
— Он ранен… Тяжело. В живот. Везти нельзя. Его оставили. Жители записаны, и, если что будет, они ответят.
— Где?
— На окраине Елизаветинской, у казака Кравченко… Да ты что же!
— Я пойду туда!
— Оля, ты с ума сошла!
— Нет. Это вы сошли с ума, что оставили его.
— Оля! Он всё равно умрёт.
— Тем более. Он умрёт у меня на руках. Умрёт без злобы и ненависти, благословляя вас.
— Оля, я не пущу тебя!
— Не посмеешь!.. Иди… делай свой долг до конца, а я буду делать свой. Я сестра милосердия прежде, чем сестра твоя, а ты солдат-корниловец прежде, чем мой брат. Твоё место в рядах полка, а моё при раненых. Я русская девушка и ты русский солдат и мы должны уметь смотреть в глаза смерти!.. Иди!
Оля обняла Нику и поцеловала его.
— Перекрести за меня Павлика, — сказала она. — Папа и мама видят нас! Они помолятся и заступятся за нас!.. Прощай… Родной!
Ника пошёл за полком. Он спотыкался и не видел под собою дороги. «Э! Все равно, — думал он. — Корнилова не стало, и мы погибнем». Оля пошла к сестре Валентине.
— На подвиг идёте вы, Олечка, — сказала сестра Валентина, развязывая уже увязанный аптечный чемодан. — Возьмите бинты и лекарства.
Она проворно завязывала пакет.
— А это, — сказала она, подавая маленький пузырёк Оле, — если вам будет угрожать что-либо худшее смерти.
— Спасибо, — сказала Оля.
Они простились просто, без лишних слов и без слёз. Все это было бы таким ничтожным перед тем, что совершалось в эту прекрасную весеннюю ночь, когда народилась молодая луна и сладко пахло древесными почками и землёю.
Оля шла по опустевшей станице. Жители попрятались, и из-за палисадников виднелись хаты с закрытыми наглухо ставнями. Оля одна шла туда, откуда все спешили уйти. Многие казаки торопливо укладывали повозки и спешили уезжать, боясь кровавой расправы. Оля спрашивала их, где дом казака Кравченко.
— Дальше, дальше, по этой улице, — говорили ей. — По правой стороне, второй с края.
Луна уже давала свет, и тени тянулись от набухших почками деревьев. Улица спускалась вниз. Попадавшиеся собаки не лаяли, но поджимали хвосты и убегали в калитки.
Поперёк улицы лежал человек с забинтованной головою. Это был раненый, которого бросили и который застрелился… В таком же положении был и Ермолов.
Оля встретила казаков с лопатами. Должно быть, они шли убирать труп самоубийцы.
— Где дом Кравченки? — спросила их Оля.
— К раненым, что ль? — сказал, останавливаясь, казак.
— К раненым.
— Двое осталось. Третий, вишь, не выдержал. Порешил с собою. Ну, помогай Бог. Второй дом отсюда. Там свет увидаете.
Через маленький палисадник была настлана деревянная панель в две доски. Сирень в больших бутонах, кистями висевшая с ветвей, протягивалась к Оле и холодными свежими, ещё не пахнущими, но нежными шариками мазала по щекам. Оля поднялась на рундучок, открыла дверь и вошла в комнату. На столе горела лампа. За столом сидели казак с казачкой. Они пили чай. Вдоль стен хаты были положены снопы соломы и на них — два человека. Один, с тёмным лицом, лежал, закатив глаза, и непрерывно, мучительно стонал. Он был без памяти.