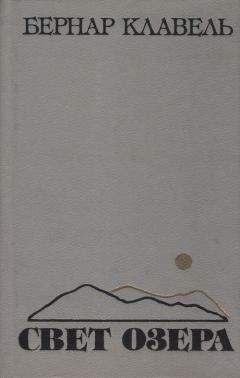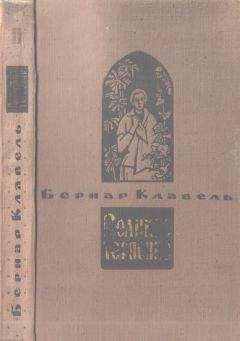— Какая жалость, что такой добрый и такой великодушный народ до сих пор тешится этими дурацкими игрищами. Для меня это вернейшее свидетельство того, что в каждом человеке живет и самое прекрасное, и самое дурное. Так постараемся же никогда не открывать пути дурному.
Наконец стрелки, получившие заслуженную ими корону, по-военному отдали честь сидящим на почетной трибуне. И потом каждый бросал свою лепту в большую корзину, которую держали две девицы, одетые во все белое. После них вновь продефилировали зрители, от каждой проходящей группы отделялся выборный и ссыпал содержимое шляпы в корзину с деньгами. Когда музыканты, обойдя весь луг, остановились перед трибуной, старейшина поднялся и предложил Блонделю последовать за ним. Они первыми спустились вниз, за ними шли все остальные члены Совета. Бизонтен и его друзья тоже влились в шествие. Так все они и вошли в город, где уже весело трезвонили колокола. Когда они вступили на деревянный мост, Бизонтен крепко сжал руку Мари. И, нагнувшись, шепнул ей на ухо:
— Помнишь тот первый вечер?
Мари подняла на него глаза, и тут же оба дружно повернулись в сторону реки, где на берегу они разбили лагерь, когда у них не было ни еды, ни сена, когда еще они даже не знали, примет ли их городская стража или отгонит к границе.
Остаток нынешнего дня был подобен потокам солнца, разливавшимся по разукрашенному флагами городу. Восточный ветерок, поднявшийся к полудню, играл полотнищами флагов и знамен, уносил на запад гул праздничной толпы. На открытом воздухе под разноцветными навесами было разложено угощение, стояли бутылки с местным вином, и музыка, казалось, сама чуточку захмелела. На пристани, где были расставлены столы со всякой снедью, уже начались танцы.
— Бог ты мой, — шептал своим друзьям Блондель всякий раз, когда их сталкивало течением толпы, — какое же это ненужное расточительство, а ведь совсем близко отсюда люди умирают с голоду! Счастлив тот народ, которого судьба уберегла от войны!
Но ведь он знал, что каждая проданная сосиска, каждый проданный ломоть хлеба, каждая лепешка, каждый стакан вина — все это идет на восстановление Ревероля, и эта мысль в конце концов заставила его все-таки улыбнуться. Жители Моржа изобретали сотни способов добыть для этого побольше денег, начиная с мостовой пошлины у городских ворот и у пристани с прибывавших в город. А поскольку люди сотнями хлынули из Лозанны и из многих других мест, поскольку их сотнями доставляли на лодках из всех городов Савойи, уже сейчас можно было не сомневаться, что выручка обещает быть богатой. Всадники платили за коня, на котором сюда прискакали, моряки приглашали желающих прокатиться по озеру, рыбаки жарили только что выловленную рыбу и продавали ее совсем еще горячей, крестьяне предлагали последние зимние яблоки и сахарный горошек. Чтобы иметь право потанцевать, приходилось покупать за два су особую кокарду, и те же два су брали с желающих поглазеть на жонглеров и ученую лисицу. Бурый медведь протягивал вам лапу за четыре су, а театр марионеток, возведенный на рынке, обошелся бы вам в полфлорина. Блондель растрогался до слез, когда они добрались до небольшого прилавка, за которым стоял старик кузнец Гийом Роша и продавал каминные подставки для дров и совки для углей, все это он мастерил вечерами и сработал с превеликим тщанием. Старик перецеловал всех своих друзей и наказал им:
— А вы быстрее орудуйте в Ревероле, я ведь собираюсь там кузню поставить.
Только сейчас они поняли, как, должно быть, одиноко ему без друзей в Морже.
— Мы о нем, пожалуй, забыли, у нас в Ревероле есть с кем делиться радостью, — заметила Ортанс, — поэтому-то мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы он как можно скорее снова был с нами.
Разумеется, праздник должен был продолжаться до глубокой ночи, но Блонделю не терпелось поскорее вырваться из шумней толпы гуляющих. В обратный путь они пустились, когда солнце уже садилось. С высоких холмов, окружавших Морж, было видно, как зажгло оно предвечерним пламенем все озеро и как обрушился на него предвечерний туман. Подножия гор уже заволокло дымкой, размывшей их очертания, зато вершины на фоне кроваво-красного заката стали еще суровее и, казалось, вспарывали небесный свод. На минуту Пьер остановил повозку, чтобы дать своим седокам возможность объять всю глубину тишины. После многочасового шума и лихорадочного веселья, после буйства ярких красок безмятежная чистая красота мгновения всецело захватила их. Город лежал внизу, в котловине. Городской гул еще доходил до них, и бесчисленные точечки огоньков, словно радугой, расцвечивали туман, смешанный с дымом, валившим из труб. Но не туда обращались их взоры, они обращались к озеру, принимавшему все оттенки предзакатного неба. Бизонтен почувствовал, как им овладевает странное ощущение какой-то непонятной силы при мысли, что тысячи людей любуются совсем иным зрелищем, нежели они здесь, и что только для них разыгрывается эта феерия света. Блондель прошептал про себя:
— Даруй, господи, всем этим людям возможность восторгаться. И даруй им также желание жить в мире.
Пьер тронул вожжи, и Бовар медленно пошел вперед, как бы не решаясь нарушить очарование.
Перед своим отъездом Блондель, снова отправлявшийся в Франш-Конте, собрал друзей и, пользуясь отсутствием Клодии, сказал им:
— Одно меня беспокоит. Кроме таких верных людей, как мастер Жоттеран с супругой, никто здесь ничего не знает о Клодии. А стан ее в последнее время заметно пополнел. Люди станут задавать разные вопросы и вам, и даже ей самой. Что же нам делать? Говорить правду? Нет. Я боюсь глупцов. Одно неосторожное слово может ранить это дитя.
И так как все промолчали, он глубоко вздохнул и просто добавил:
— Над этим следует хорошенько подумать. Прошу вас всех об этом.
И он уехал. Всякий раз после его отъезда все ходили растерянные. Однако Ортанс, казалось, оправилась первой. Уж на что она была ослеплена Блонделем, но сумела быстрее прочих взять себя в руки. Как будто то, что в вечер приезда Блонделя она обратилась к нему с суровой отповедью, ослабило ее путы. По-прежнему Ортанс говорила о лекаре с нескрываемым восхищением, но чувствовалось, что она готова стойко отстаивать свои решения. Она осудила даже его отказ присутствовать на Празднике трех попугаев и добавила:
— В его поведении слишком много покорности обстоятельствам. Спасать детей — это безусловно великое дело, но прогнать из Франш-Конте французов — деяние столь же великое. — И, указав на мальчугана с отрезанной ногой, ковылявшего на своих костыликах вслед за другими детьми, она добавила: — Конечно, прекрасно, что он его подобрал и вылечил, но, будь у мальчугана две ноги, было бы еще лучше.
Бизонтен с беспокойством прислушивался к ее словам. Он догадывался, что ее неустанно грызет желание действовать, и действовать смелее. Настойчивое ее стремление следовать за Блонделем, объясняется ли оно только желанием помогать лекарю из Франш-Конте в его благородной задаче спасения детей?
Бизонтен то и дело возвращался к этой мысли, но ни разу не спросил об этом саму Ортанс, не поделился своей тревогой с друзьями. Ведь здесь он был не только главой стройки, но и заводилой всеобщей радости. Когда он не крыл крышу соседнего дома, все свое свободное время он проводил в детьми. И смех его, подобный клекоту птиц, вызывал ответный хохот.
Прошла неделя, и казалось, Ортанс целиком отдалась работе: то возилась на кухне, то проверяла записи и счета, заботилась о детишках, старалась как-то получше наладить их житье-бытье и еще вела переговоры с будущими родителями. Детей у них осталось всего семеро, и решено было отдать их родителям, когда кончится карантин и они хоть немного оправятся и наберут сил. День ото дня все жарче пригревало солнце, в Ревероле царили мир и покой; но вот как-то вечером Бизонтен возвращался из Моржа, куда ездил за стропилами, а Пьер следовал за ним на второй повозке. Вдруг подмастерье остановил свою упряжку и крикнул:
— Отведи этих людей в дом. Там раненый. Лошадей я распрягу сам.
Какая-то женщина лет тридцати, высокая и худая, помогала идти мужчине, опиравшемуся на грубо сколоченный костыль. Из-под длинного коричневого плаща, накинутого на плечи калеки, виднелась только одна нога, обмотанная грязными рваными тряпками. Широкая шляпа с низко опущенными полями скрывала его лицо.
— Входите, входите, — пригласила вновь прибывших Ортанс… — Садитесь, пожалуйста.
Не сдержавши стона, раненый тяжело опустился на табурет. Прислонился спиной к столу и вытянул ногу. Тряпки, которыми были обмотаны его ноги, заскорузли от грязи и крови. Ортанс кликнула цирюльника, и он сразу же принялся менять повязку. Ортанс, помогавшая ему, бросила Мари:
— Скорее, Мари, теплой воды! Сейчас не время дремать. А ты, Клодия, разогрей похлебку, похлебка у нас еще осталась.