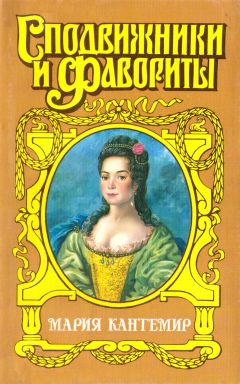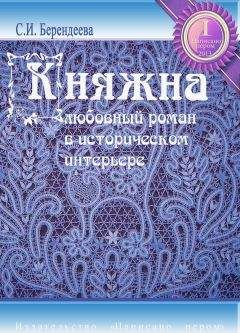— Это тебе, Мария, — объяснил Пётр, указывая на сверкающий жёлтым лаком инструмент с золотыми подсвечниками по сторонам, ажурными и изящными.
Мария изумлённо глядела на Петра: как узнал он, что она тоже мечтает об инструменте, что она тоже хочет иногда играть и петь?..
— Двоим не поместиться за одним инструментом, — опять легко хохотнул он, — а ты прекрасно поёшь, играешь — вот тебе и игрушка...
И опять словно дымкой подёрнулись зелёные глаза Марии: редко кто-либо проявлял к ней такую заботу и внимание, редко кто догадывался о её сокровенных мечтах.
Она села к клавесину, и странные греческие мелодии зазвучали в ушах Петра, звонкий голос Марии уносил его к каким-то неведомым берегам, чудилось бескрайнее море, белые барашки на волнах, белокрылые паруса над кораблями и летящие в стороны от носа два прозрачных водных крыла.
Странно, как будила в нём воображение эта девушка, как затрагивала самые затаённые струны души. Он и не подозревал, что есть в нём ещё запас нежности и красоты.
Обратил внимание Пётр и на то, что Анастасия унизывала себя дорогущими перстнями, жемчужными ожерельями и браслетами, каждый раз показываясь перед царём в новом наряде.
А Мария укладывала пышные волосы, лишь распустив длинные тёмные локоны, надевала одно и то же платье из лёгкого муслина и ничем не украшала свои маленькие ушки, свои тонкие, длинные, изящные пальцы.
И Петру хотелось украсить её, видеть в красивых нарядах и дорогих браслетах, и он молча совал ей в руки то изумрудное ожерелье, то камень зелёного цвета в ажурной золотой оправе, то подвески, цену которым он и сам не знал...
Мария смущалась, отнекивалась, но царь строго взглядывал на неё и говорил:
— Небось у мачехи получше есть...
И снова вздрагивала Мария от щемящего ощущения жалости к самой себе.
А он только гладил её по тёмным пышным волосам и вздыхал.
Но подарки и внимание царя к Марии не остались незамеченными в петербургских гостиных.
Все наперебой судачили о новой фаворитке, и ещё не было ни постели, ни любовных игр, ещё лишь отеческая забота царя вызывала в Марии такое ответное тёплое чувство, что она понимала — это настоящая любовь, единственная, может быть, в её жизни, а уж все судили и рядили, что прекрасная княжна Мария, наследница византийских императоров, соблазнила русского царя одной только своей скромностью...
И конечно же, донеслось это и до ушей Екатерины.
Она всегда легко относилась к бесчисленным связям мужа, понимала его ненасытную страсть, но тут словно бы сердце подсказывало ей — эта связь необычная, девушка слишком уж красива, недоступна и оттого всё больше мила.
Екатерина не стала упрекать Петра, только однажды, вроде бы случайно, будто пришлось к слову, весело сказала:
— Седина в бороду, бес в ребро...
Пётр вспыхнул, но ничего не сказал, лишь молча поглядел на стародавнюю свою подругу.
А Екатерина тут же перевела разговор на то, что дочки уже подросли, пора их выдавать замуж и хорошо бы завязать через них самые тесные связи с европейскими дворами. А уж какой бы желанной была свадьба Елизаветы с французским наследником: была бы королевой Елизавета — сразу бы Россия вровень с Францией встала.
И Пётр опомнился: взрослые дочери, стареющая жена, а он думает о молоденькой красавице, разбередившей его сердце. Мало ли было в его жизни женщин... И тут же вздохнул: такой не бывало...
— Собирайся, — коротко приказал он Екатерине, — поедем по Европе, съездим и в Париж — не бывал я там давно, да и дела наши неотложные.
Екатерина вздохнула с облегчением: уедет и забудет эту молдавскую красавицу, а уж в Европе много таких кралей...
И Пётр укатил в странствие по Европе, ничего не сказав Марии...
Но всем честолюбивым надеждам русского царя не суждено было сбыться — в Версале только презрительно посмеялись над прозрачными намёками Петра: дескать, хороша девица и по-французски болтает, как на своём родном языке, а уж менуэт танцует — одно загляденье, и хоть немного ей лет, но образованна и умна.
Что было Парижу до красоты Елизаветы, коли была она сначала незаконнорождённой, да и мать у неё самого подлого происхождения.
Однако вежливо и дипломатично сообщили, что уже давно обещана рука короля Франции, будущего Людовика XV, английской принцессе, а государям не полагается изменять своим словам.
Пётр только дёрнул шеей в ярости, чуть не забился в припадке, но Екатерина, как всегда, успокоила его ласковыми и тёплыми словами, уложила на свою высокую пышную грудь, и царь проспал два с половиной часа, словно упавший в воду и утонувший пловец.
Она сидела не шелохнувшись, едва упираясь спиной в подушку дивана, боялась даже руку переместить с места на место, чтобы не потревожить такой необходимый ему сейчас сон...
Он проснулся через два часа, и лицо его было ясным и весёлым.
— Да пошли они, — грубо выругался он.
Удалось договориться лишь с незначительным голштинским принцем: был он беден, как церковная мышь, но мечтал о пышных русских хлебах и потому согласен был на всё, только бы вкусить от роскоши русского двора.
И грезил втайне, что всё ещё может измениться, а старшая дочь царя может стать и царицей — вот тогда уж он и развернётся...
Во всяком случае, устраивая союзы, склоняя мелких князьков крохотных германских земель к единению, выговаривая себе перемирие и соглашение с прусским королём, Пётр почти нисколько не подвинулся в своих намерениях — всё ещё шла война со Швецией, всё ещё стягивал вернувшийся из Турции Карл XII войска к северным границам России, мутил воду в Европе.
Но посреди всех дел, всех разговоров и свиданий с королями и принцами, князьками и владетелями приходила ему вдруг на ум Мария — так и сверкали перед ним её изумрудные глаза, так трогательно и решительно заносились над очередной шахматной фигурой её тонкие и изящные пальчики.
И тогда он взглядывал на Екатерину.
В России никогда не считалась некрасивой дородность женщин, наоборот: чем полнее была женщина, тем считалась лучше и красивее.
Но Екатерина после своих одиннадцати родов слишком уж расплылась, ни один корсаж не выдерживал её пышной груди, а кринолины уже не скрывали её тяжело раздавшихся бёдер.
Да и постарела она: морщинки легли вокруг небольших карих глаз, слегка опустились углы губ, и уже не было в них прежнего сладострастного призыва.
Но он всё ещё любил свою Катеринушку, друга сердечного, и потому перемены в её внешности проходили мимо его сознания.
И только представляя себе Марию, её высокую, тонкую, как тростинка, фигурку, её нежную шею, к которой так и хотелось припасть поцелуем, её розовые мягкие губы, он понимал, как стареет Екатерина.
«Да ведь и я не молодею», — обрывал он себя даже мысленно, тут же стирал в памяти образ молоденькой молдавской княжны и погружался всецело в свои дела и заботы...
А Мария терзалась день и ночь. Умчался Пётр, умчался далеко и надолго, и ни весточки никакой, ни привета, ни хоть отзвука не было от него.
Он не выходил у неё из головы, она вспоминала и то, и это, перебирала в памяти то взгляд орлиный, то слова, сказанные вскользь, находила в них новый смысл — и тосковала.
Как хотелось ей увидеть его хоть на минуту, подсмотреть в дверную щёлку, услышать его короткий басовитый смешок!
Наступало нежаркое северное лето, и Мария уже распорядилась, чтобы вся семья собиралась в подмосковное сельцо Чёрная Грязь, которое подарил князю Кантемиру царь ещё во времена жительства в Москве.
Сам князь оставался в Санкт-Петербурге, трижды в неделю присутствовал он в Сенате, и дела требовали его житья здесь, в столице.
А мальчишки мечтали вволю побегать по зелёным полям и лесам Подмосковья, поплавать в небыстрой чёрной воде протекавшей возле усадьбы речки, пошалить на свежем воздухе, в тени вековых деревьев и смолистых сосен.
Анастасия не вмешивалась больше в дела управления домом — она уже поняла, что падчерица с её властным и крутым нравом, тихая на вид, но внутри словно бы сделанная из железа, не даст ей спокойно владеть и князем, и домом.
И она покорно согласилась с Марией, когда та разъяснила ей все преимущества летней жизни в Подмосковье: и дешевле, и дети отдохнут от туманов и вечной влаги, да и самой Анастасии пойдёт впрок эта летняя кочёвка.
Скоро стали собираться на княжий двор кареты, телеги и двуколки, раскладывалось всё, что нужно было для отдыха в деревне.
А брали с собой всё, вплоть до посуды и большого запаса свечей, тёплых одеял и даже книжек для чтения.
В один из особенно тягостных дней, когда на голову сыпался не то дождь, не то сырой капельный туман, подъехала к высокому княжескому крыльцу карета, в которой должны были поместиться сама Мария с Анастасией и две их горничные, а потом подкатила повозка, крытая новой блестящей рогожей, в которую впихнули всех мальчиков с учителями Анастасием Кондоиди и русским Иваном Ильинским: даже летом не оставляли они занятий — Мария неукоснительно за этим следила.