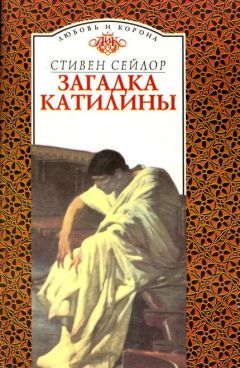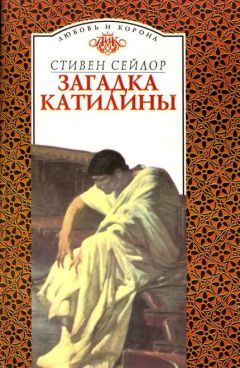Ознакомительная версия.
— Говорите!
Рослый убийца, несколько поколебавшись, насупился и решительно произнес:
— Помпей желает, чтобы его враг был уничтожен. Нам приказано. Никому не следует мешать желанию проконсула.
Он, видимо, ждал беспрекословного повиновения и повторил с уверенностью:
— Приказано самим Помпеем.
— Чем ты не угодил Помпею? — спросил тот, кого называли Секстом.
— Этого я не знаю.
— Кто ты? Откуда?
Что-то удержало Катулла назвать полностью свое имя. Напрягаясь внутренне от сознания все еще угрожавший ему опасности, он сказал неопределенно:
— Гражданин из рода Валериев… Веронский муниципал…
— Он из Цизальпинской Галлии, провинции Цезаря, — уточнил тот, кого назвали Секстом.
Стоя поодаль, светловолосый приказал:
— Отпусти его. А эти помпеянцы свое прожили[191]. Отправь их к Харону и не задерживайся.
Он стремительно пошел дальше, не обращая внимания на угрозы и возмущенные крики обреченных. За ним двинулся весь отряд. Несколько юношей в красных плащах обступили преследователей Катулла.
Звякнули мечи… Хриплый стон, падение тяжелого тела… Быстрая невидимая возня, мольба о пощаде, еще стон, падение… Исполнившие приказание поспешили догнать своих.
— Сделано, Клодий!
Мрак прильнул к мостовой. Ночное небо плакало холодными мелкими слезами. Катулла бил озноб — клацали зубы. Его спас Клодий Пульхр. Если бы Клодий знал, что перед ним дерзкий поэт, поносивший его в своих эпиграммах, вряд ли он оставил бы ему жизнь. Ненависть к Помпею лишила его обычной проницательности: посланные за головой Катулла сами оказались жертвами междоусобицы. Катулл из провинции, которой официально управляет Цезарь, и Клодий подумал… Впрочем, не все ли теперь равно, о чем думал Клодий?
Катулл вспомнил гадание Агамеды. Видения, вызванные колдовством старухи, не были, значит, только ловким надувательством влюбленного простака, некоторые из них оказались пророческими. Катулл будто снова увидел освещенное факелами, нахмуренное лицо красивого светловолосого человека, — оно возникло перед ним в ту давнюю ночь, в убогом домике близ Эсквилинского кладбища… и только что, здесь, он его узнал.
Так вот к кому обращено сердце Клодии! Вот кого она любит бескорыстно, самоотверженно, с постоянством и нежностью! Своего родного брата Публия!
Они достойны друг друга. Оба святотатцы и разрушители: он — сеятель смуты, бешеный вожак алчной черни, центр смертоносной бури; она — осквернительница семейных уз, верности, чистых и возвышенных чувств, надменная, торжествующая хищница.
Послышалось невнятное бормотание… Катулл приблизился к тем, кто хотел его прирезать. Он наклонился, силясь разглядеть в темноте их лица. Нет, ему показалось: оба убиты, и его помощь не требуется.
Но что это? Он отшатнулся… Один из поверженных врагов тянулся к нему зажатым в кулаке коротким ножом. Боги, сколько злобы в человеческой душе! Умирая, теряя последние силы, эти наемники не различали уже — кого в эти мгновения настигнет их запоздалая месть.
Плохо стало Катуллу, Корнифиций,
Плохо, небом клянусь, и тяжко стало.
Что ни день, что ни час — то хуже, хуже…
Но утешил ли ты его хоть словом?
А ведь это легко, пустое дело!
Я сержусь на тебя… Ну, где же дружба?
Но я все-таки жду хоть два словечка,
Пусть и грустных, как слезы Симонида[192].
Катулл отослал Корнифицию эти стихи, но ответа не дождался: тот был слишком занят и не удосужился ободрить друга. Правда, Корнифиций перебивался теперь случайными адвокатскими заработками и сам надеялся на милость влиятельных покровителей.
Тит вслух осуждал равнодушие друзей. Он тревожился, глядя на своего Гая Валерия, и неспроста: молодой хозяин заболел серьезно. Тит советовался с лекарями и давал Катуллу пить отвары целебных трав. Катулл покорно пил снадобья старика, но облегчения не чувствовал.
В квартире стоял нестерпимый холод. Зима выдалась на редкость ненастная и сырая. На стенах темнели грязные потеки, в оконце рвался ночью ледяной ветер, — Тит заткнул его старым тряпьем.
Катулл лежал в полутьме и неподвижно глядел на кучку красных углей в жаровне. Рядом хлопотал Тит: мешал в котелке, подвешенном над жаровней, штопал заношенные туники, подогревал ячневые лепешки для Катулла. Кряхтел, ворчал, ходил туда-сюда и, конечно, был убежден, что это делает вполне сносным их скудное существование. Катулл временами говорил ворчуну что-нибудь шутливое. Он чувствовал к нему искреннюю привязанность. Только этот грубоватый старик скрашивал его жизнь, опекал его и пытался излечить.
Но и Тит становился все мрачнее. Деньги у них кончались, а помощи ждать было неоткуда. Катулл старался не думать об этом, хотя иной раз тяжело вздыхал, припоминая, что должен разным лицам более пяти тысяч сестерциев.
Тянулись унылые дни. Иногда при красном свете жаровни Катулл наносил вялой рукой несколько строк на табличку и снова впадал в оцепенение. Когда Тит уходил из дома, его начинали донимать призраки.
Вползала через порог и подкрадывалась к его ложу взлохмаченная, костлявая колдунья Агамеда с хитрой, всезнающей ухмылкой, поникнув головой, белел в дальнем углу прозрачный и грустный силуэт умершего брата, или здравствующие благополучно друзья-неотерики рассаживались перед ним полукругом и язвительно смеялись, указывая пальцами на него, замерзшего, исхудавшего, еле живого. Но страшнее всех видений было явление безобразного чудовища, косматого, клыкастого, хвостатого, постоянно меняющего обличье, извивающего чешуйчатые мерзкие щупальца и отвратительно смердящего. Катулл боялся этого видения до судорог — оно особенно ужасало его своим ускользающим, бесформенным, химероподобным видом.
Катулл укрывался с головой, скрежетал зубами и жалко дрожал, превозмогая тошноту и бормоча проклятия. Видения и голоса исчезали. Он высовывал голову из-под одеяла и глядел неподвижно вытаращенными глазами. Постепенно он приходил в себя, глубоко вздыхал и, чтобы окончательно успокоиться, начинал громко читать стихи Сафо, Мимнерма, Каллимаха… случалось, что и свои собственные. Но спокойствие не приходило. Он читал стихи и тихо плакал, потому что поэзия была его жизнью — если не всей жизнью, то самой прекрасной и достойной ее частью, и он думал теперь, что это единственное, о чем он пожалеет, покидая навсегда мир страданий и тоски.
Такое существование не могло длиться долго. Несмотря на хлопоты верного Тита, Катулл угасал. И тут произошла внезапная перемена в его горькой жизни.
Ранним утром без стука распахнулась дверь, вошел Корнелий Непот в сопровождении Тита и двух рабов. Он бодро приветствовал Катулла и тоном, не терпящим возражений, заявил:
— Я велел приготовить для тебя удобную комнату в своем доме… рядом с таблином. Тебе будет недалеко ходить за книгами… Тит, укладывай вещи… А вы, — обратился он к рабам, — носите их в повозку.
Катулл настолько растерялся, увидев Непота, что забыл поблагодарить и спросил обеспокоенно:
— А как же Тит?
— И для Тита найдется местечко, — засмеялся Непот.
В этой темной холодной квартире давно никто не смеялся. Катулл вздрогнул и, будто не доверяя Непоту, продолжал с глуповатым упорством убеждать:
— Ведь Тит свободный земледелец… И наш земляк… Пожалуйста, учти это, Корнелий… И потом… Надо заплатить за квартиру… около тысячи.
— Я уже отдал деньги управляющему, все улажено. Ты вернешь их мне, когда сможешь.
Катулл переехал к Непоту и поместился в теплой, уютной комнате. Он мог пользоваться прекрасной библиотекой историка, слушать его спокойный голос, глядеть в его внимательные серо-голубые глаза. Наконец он почувствовал себя счастливым. Даже боль в его изможденном теле утихла.
Непот вызвал искусного врача, грека Нептолема, про которого говорили, что он «знает все травы целебные, сколько земля их рождает»[193]. Грек составил рецепт и объяснил, как приготовить лекарство.
— Пусть больной пьет на ночь фасосское вино и ест венункульский изюм, — сказал он в заключение и, получив мзду, важно удалился.
Катулл принимал замысловатое лекарство и уверял Непота:
— Корнелий, дорогой, мне действительно лучше…
Однажды Непот вошел к Катуллу с озабоченным видом.
— Вот что, Гай, — произнес он, садясь напротив, — я уговорил издателя Кларана подготовить сборник твоих стихов. Тебе следует собрать для него все, наиболее достойное. Как ты себя чувствуешь? Неплохо? Хвала Аполлону! Тогда немедленно начинай. Я тебе помогу.
У Катулла дрожали губы. Он полузакрыл глаза синеватыми веками.
— Нет, нет, я не плачу, Корнелий, — торопливо прошептал Катулл, — мне просто тяжело слышать о том, что издателей надо уговаривать. Еще не так давно они умоляли меня дать хоть несколько строчек и дрались за право опубликовать их первыми. Теперь в Риме забыли Катулла, его считают конченым стихотворцем и безнадежно сумасшедшим… я знаю…
Ознакомительная версия.