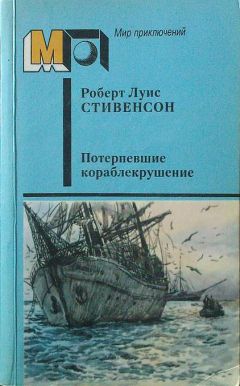Не знаю, насколько это наблюдение верно, но, во всяком случае, тот, кто пытается выдать себя за филателиста, не имея для этого никаких оснований, попадает в трудное положение.
— А а! Второй выпуск, — говорил я, быстро прочитав надпись рядом с маркой. — Да, да, розовая… нет… я хотел сказать, палевая — самая интересная на этой странице. Хотя, как вы говорите, вот эта желтенькая — настоящая редкость.
Мой обман, конечно, был бы открыт, если бы я из чувства самозащиты не напоил мистера Денмена его любимым напитком — портвейном, настолько прекрасным, что он, несомненно, не мог дозреть в погребе «Герба Картью», а был перенесен туда под покровом ночи из подвалов господского дома. Каждый раз, когда мне грозило разоблачение и особенно когда он задавал какой нибудь коварный вопрос, я торопился снова наполнить его стакан, и к тому времени, когда мы дошли до марок, предназначенных для — обмена, почтенный мистер Денмен был в таком состоянии, которое обезвреживает даже самого рьяного филателиста. Нет, он совсем не был пьян — по моему, для этого у него не хватало энергии и живости. Однако глаза его остекленели, и, хотя он продолжал разглагольствовать, ему было решительно все равно, слушаю я его или нет.
Среди марок мистера Денмена, предназначенных для обмена, как и среди марок маленькой Агнес, можно было подметить ту же странность, а именно избыток заурядных французских марок ценой в пять су. Я осторожно разложил их перед собой и, подобрав все необходимые буквы, составил название города, которое меня так интересовало: Шайи ан Бьер, городок вблизи Барбизона, самое подходящее место для человека, который скрывается, самое подходящее место для мистера Норриса, который совершал длинные экскурсии, рисуя пейзажи, самое подходящее место для Годдедааля, который забыл на борту «Летящего по ветру» свой мастихин. Как странно, я кружил по Англии с Бэллерсом, а человек, которого мы искали, все это время жил там, куда влекли меня мои помыслы.
Я не знаю, показывал ли мистер Денмен свой альбом Бэллерсу и сумел ли Бэллерс по стертому штампу разобрать то, что его интересовало, но теперь это не имело значения. Я тоже узнал все, что мне было нужно.
Мой интерес к маркам испарился самым беззастенчивым образом, я немедленно распрощался с удивленным Денменом и, приказав закладывать лошадь, принялся изучать расписание поездов и пароходов.
Я добрался до Барбизона в два часа дня, когда улицы его кажутся вымершими: все прилежные труженики уже где то пишут свои эскизы, все бездельники уже отправились гулять в лес или около реки. Гостиница тоже была пуста.
Однако я с большой радостью увидел в общем зале одного из моих прежних приятелей. Судя по его городскому костюму, он собирался уехать, и действительно рядом с ним на полу лежал портплед.
— Стеннис! — воскликнул я. — Вот уж с кем не ожидал здесь встретиться!
— Еще немного — и мы бы не встретились, — ответил он. — Мы уже слишком стары, и для нас в Барбизоне нет места. Я пробыл здесь неделю, и оказалось, что я никому не известен. Только Фараон узнал меня, ну и, конечно, супруги Сирон и бессмертный Бодмер.
— И никто не уцелел? — осведомился я.
— От нашей геологической эпохи? Никто, — ответил он. — Полное безлюдье, словно на развалинах древнего Вавилона.
— А какие кочевники разбивают теперь шатры среди руин? — спросил я.
— Молодежь, Додд, молодежь. Цветущая, самодовольная молодежь. Пакость невообразимая. И подумать, что мы сами были такими! И как это Сирон не выгонял нас с позором из своего заведения!
— Ну, может, мы были не так уж плохи, — попробовал я возразить.
— Не буду разбивать ваши иллюзии, — ответил Стеннис, — но должен сказать, что единственная терпимая личность здесь — это один англичанин.
Его последние слова напомнили мне о цели, ради которой я сюда приехал и о которой эта приятная встреча заставила меня забыть.
— А кто он? — спросил я. — Расскажите.
— Терпимая личность? — переспросил он. — Ну, очень приятный человек. Довольно замкнутый, скучноватый и вежливый, но очень очень приятный. И к тому же он истый британец, простодушный британец. Боюсь, это будет действовать на ваши заатлантические нервы. Хотя, впрочем, вы должны отлично поладить. Он большой поклонник одной из (простите меня!) самых неприятных черт вашей великой республики. Он выписывает и внимательно прочитывает множество американских газет. Я же вас предупредил, что он человек простодушный.
— А какие именно газеты? — воскликнул я.
— Выходящие в Сан Франциско, — ответил Стеннис. — Дважды в неделю он получает их целую кипу и прочитывает от первой до последней строчки. Это одна из его слабостей. А другой его недостаток — сказочное богатство. Он снял прежнюю мастерскую Массона — помните, на перекрестке? — обставил ее, не считаясь ни с какими расходами, и живет там, окруженный тонкими винами и предметами искусства. Когда современная молодежь отправляется в Пещеру Разбойников варить пунш — они ведь проделывают все, что проделывали мы, отвратительные обезьяны (я прежде никогда не замечал, до чего сильна в человеке склонность следовать установившимся традициям)… — так вот, когда они отправляются в Пещеру Разбойников, этот Мэдден отправляется туда же с корзиной шампанского. Я попробовал объяснить ему, что он совершает ошибку и что пунш гораздо вкуснее, но он считает, что, с точки зрения этих молодчиков, шампанское куда шикарнее, и, наверное, так оно и есть. Он человек очень добрый, очень меланхоличный и довольно беспомощный. Ах да, у него есть еще третья слабость, о которой я чуть не забыл. Он малюет. Он никогда не учился живописи. Ему уже за тридцать лет, и все таки он пишет картины.
— Ну и как? — спросил я.
— Весьма неплохо, мне кажется, — ответил Стеннис. — Это то и неприятно. Судите сами. Вот одна из них.
Я оглянулся. Я хорошо помнил эту комнату еще с прежних времен: столы, расставленные в форме буквы «П», большой буфет, разбитый рояль и картины на стенах. Среди них были мои старые знакомые: «Ромео и Джульетта», «Вид Антверпена с реки», «Корабли в замерзшей гавани» и огромный охотник, трубящий в огромный рог, — но к ним прибавилось несколько новых — дары следовавших за нами поколений художников — совершенно такие же в смысле качества. На одну то из этих последних и указывал Стеннис. Выполнена она была чрезвычайно неровно, некоторые места поражали удачным колоритом, другие были более чем посредственны. Однако мое внимание привлек сам пейзаж, а не искусство его воплощения. На первом плане тянулась полоса кустарника и песка, усеянного обломками. За ней простиралась многоцветная лагуна, окруженная белой стеной прибоя. Дальше виднелась синяя полоса океана. На небе не было ни облачка, и я словно услышал грохот валов, разбивающихся о риф, ибо передо мной был остров Мидуэй, изображенный с того самого места, где я в первый раз сошел на сушу с капитаном и где я побывал вторично в день нашего отплытия. Я несколько минут рассматривал картину, и вдруг мое внимание привлекло пятнышко на линии горизонта. Всмотревшись внимательнее, я понял, что это дымок парохода.
— Да, — заметил я, обращаясь к Стеннису, — в картине что то есть. А какое место на ней изображено?
— Так, фантазия, — ответил он. — Вот это мне и нравится. У большинства современных художников фантазии не больше, чем у гусеницы.
— Вы говорите, его фамилия Мэдден? — продолжал я свои расспросы.
— Да, — ответил Стеннис.
— А он много путешествовал?
— Не имею ни малейшего представления. Я уже говорил, он человек замкнутый. Он чаще всего молчит, курит, посмеивается чужим шуткам, а иногда и сам пробует шутить. Но интересным собеседником его не назовешь. Нет, — добавил Стеннис, — он вам все таки не понравится, Додд. Вы не любите скучных собутыльников.
— У него большие золотистые усы, похожие на слоновьи клыки? — спросил я, вспоминая фотографию Годдедааля.
— Конечно, нет. С чего вы это взяли?
— А он пишет много писем? — продолжал я.
— Не знаю, — ответил Стеннис. — Что это на вас нашло? Я прежде никогда не замечал в вас такого любопытства.
— Дело в том, что я, кажется, знаком с этим человеком, — ответил я. — Кажется, он именно тот, кого я ищу.
К гостинице подъехал экипаж, заказанный Стеннисом, и мы распрощались.
До обеда я бродил по полям. Мне никого не хотелось видеть, и я пытался разобраться во множестве одолевавших меня чувств. Очень скоро мне предстояла встреча с человеком, чей голос я когда то слышал, кто в течение стольких дней наполнял мою жизнь интересом и тревогой, о ком я думал столько бессонных ночей. Еще немного — и я наконец узнаю тайну подмены корабельной команды.
Солнце начало клониться к западу, но с каждой минутой, которая приближала нашу встречу, я все больше терял мужество. Я шел так медленно, что, когда вошел в обеденный зал, все постояльцы уже сидели за столом и в комнате стоял оглушительный многоголосый говор. Я сел на свободное место и вскоре обнаружил, что напротив меня сидит Мэдден. Это был высокий, хорошо сложенный человек с серебряными нитями в темных волосах. Карие глаза смотрели ласково, добродушная улыбка открывала превосходные зубы. Одежда, голос, манеры выдавали в нем англичанина, выделяя его среди всех, сидевших за этим столом. В то же время он, по видимому, чувствовал себя здесь как дома и пользовался несомненной симпатией шумной молодежи, которая его окружала. У него был странный серебристый смешок, звучавший как то нервно и плохо вязавшийся с его высокой фигурой и мужественным, грустным лицом. Весь обед этот смешок раздавался постоянно, точно звон треугольника в каком нибудь произведении новейших французских композиторов; Мэдден, казалось, поддерживал общее веселье не столько шутками, сколько сочувственной манерой держаться. Казалось, он принимает участие в застольных развлечениях не потому, что у него хорошее настроение, а потому, что, по доброте душевной, не любит мешать удовольствию других, Такую же грустную улыбчивость и умение стушевываться я замечал у отставных военных.