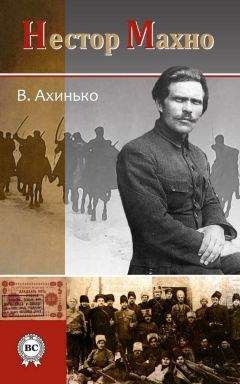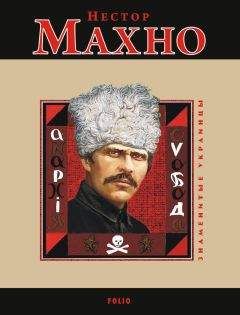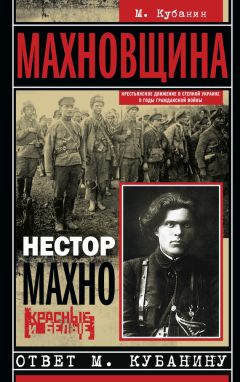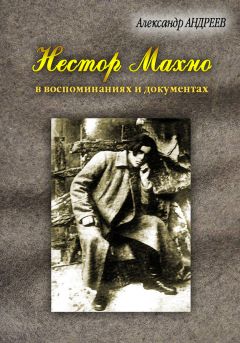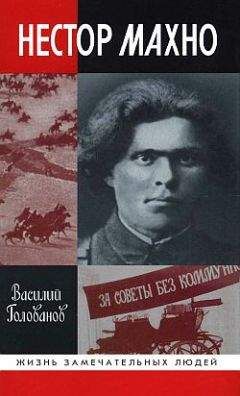— Скажи быстрей! — потребовал Нестор Иванович.
— Н-не получится, — заикнувшись, ответил ученый. — Прошу аудиенцию.
— Ишь ты, буквоед. Ну, заходи. Вот прицепился. И правда жук. Навозный! — ворчал Батько. В комнате ждал Волин. Они уже начали писать приказ по армии. Впрочем, какая армия? Чуть более тысячи штыков и сабель. Важно было шумнуть, заявить о себе.
— Перекур, Всеволод. Видишь, археолог приперся, туда его мать. Послухаем?
Волин взял в кулак узкую свою бороденку и сжал ее. Когда же заниматься делом?
— Простите, у меня всего один вопросик, — тенорком попросил гость. — Это чрезвычайно важно!
— Валяй, валяй, — поторопил его Махно.
— Предмет моих занятий весьма далек от суеты, но я наслышан о вас, Батько, еще в Киеве. Боретесь за свободу. Славное лыцарство наше запорожское возрождаете. Мечтал спросить. А тут случай. Сняли ваши хлопцы с поезда. Ответьте: вы серьезный анархист или балуетесь?
Махно усмехнулся. Ему приятно было, что молва об их борьбе уже докатилась до Киева, и не только до властей.
— Серьезный, — признал он.
— То есть отрицаете начисто государственную власть?
— Верно.
— А как же держать людей собираетесь?
— От безделья маешься? — рассердился Батько.
Волин же поднялся с кресла, прошелся по комнате.
Ни ростом, ни крепостью он не отличался.
— Можно, я ему отвечу, — не попросил, а словно потребовал. Археолог заинтересовал его. Надоели тщеславные партийные споры и пропаганда азов дилетантам. Кроме того, нужно же расширять круг единомышленников. Ученые пока — целина.
— Тебе и карты в руки, — согласился Махно.
— Мы с вами, как ни странно, заняты одним и тем же, — начал Волин.
— Не улавливаю, — сознался ученый, снял очки и глядел беспомощно распахнутыми глазами.
— Копаем могилы! — с едва заметной иронией продолжал Всеволод. — Вы, археологи, ищете прошлое, а мы, революционеры, — будущее.
— Занятно, занятно, — ожил очкарик. Он никак не ожидал услышать столь изящно выраженную мысль от разбойников, что грабят поезда, и, осмелев, сел в кресло Волина.
— Как держать людей, спрашиваете? А зачем это? Мы впервые в мировой истории предоставляем им полную возможность самим, свободно выковать формы хозяйственной и общественной жизни, — чеканил слова Всеволод. Он любил и умел говорить. Махно смотрел на него и радовался: «Вот такой соловей мне давно нужен был. Как чешет, сволочь!» — Мы находим, что эти формы выгранят сами трудящиеся массы, при условии, конечно, независимости творчества. Ее-то, независимость, мы и обеспечим. А вести людей за собой при помощи управления сверху — гибельно. Потому отрицаем вожжи партий, диктаторов и любой власти, — Волин умолк и, довольный стилем своей речи, смотрел на ученого с благодарностью и превосходством. Зеленые глаза теоретика анархизма блестели.
— Чудесный задум, — сказал гость, надевая очки, и подчеркнул весьма двусмысленно: — Чудесный! Вы обеспечите это с помощью войска?
— Другого не дано.
— Забавно. У меня появилось возражение, если позволите, — ученый помял пальцами свой курносый нос.
— Валяй, — разрешил Махно.
— Некий чиновник фараона еще шестой династии, около 2375 года до нашей эры написал на пирамиде: «Его величество послал меня во главе армии, в то время как начальники округов, хранители печатей, прорицатели, Главные Бюрократы стояли во главе своих отрядов». Слышите, сколько лет власти? Она существует всегда. Разве это не доказывает, что люди без нее не могут?
— Нет! — отрезал Волин и сел на стул рядом.
— За вами идут не потому, что вы против власти…
— А почему же? Ну, ну? — заинтересовался и Нестор Иванович.
— Потому идут, что вы против плохой власти, подлой и грабительской.
— Истинно так, — подтвердил Волин.
— Но если никакой не будет — вас бросят, — предрек ученый, глядя на собеседников светлыми глазами, увеличенными линзами очков. — Найдутся более ловкие, лукавые, и они станут править. Не правда ли?
Как только он это сказал, Махно ярко вспомнил Ленина, его кремлевский кабинет, кожаное кресло. Вождь вскакивает, смеется: «Мы знаем анархистов. Они сильны мыслями о будущем, а в настоящем беспочвенны, жалки». Нестор тогда горячо возражал, что он с товарищами весь в боевой буче. Ленин развел руками: «Возможно, я ошибаюсь». Лишь сейчас Махно ясно понял, что для самой большой кремлевской шишки «настоящее» означало только борьбу за власть. Как просто! Видение мелькнуло и исчезло.
— Мы не допустим тиранов. Зачем падать духом? — говорил между тем Волин.
— А я и не падаю. Куда уж? Глубже могилы не зароешься, — археолог поднялся и церемонно поклонился. — Благодарю вас покорно. Велите отправить меня на станцию и посадить в поезд. Все-таки сняли.
— Гаврюша! — позвал Махно. Вошел Троян. — Киньте очкаря на моей тачанке до Помошной, и проследи, чтоб не остался. А то… — он хотел добавить «заумный», но решил, что могут неправильно истолковать и по дороге коцнуть.
Ученый, фамилию которого они так и не спросили, уехал, а с вершины старого тополя все плыла переливчатая, грустная песня иволги.
На даче в Краснове, под Москвой, лежал у окна больной сыпняком Сашка Барановский, он же Попов, он же Хохол, он же Шурка-боевик. С трудом приподняв бритую голову, увидел бело-голубые стволы берез, темную лапу ели с шишками. Все это было в диковинку ему, степняку, слесарю из Александровска, промышлявшему также в Бердянске, Мариуполе. «Где я и как сюда попал?» — пытался вспомнить Попов.
Сегодня вроде отпустило, полегчало чуток. За стеной слышны голоса, шумит печатный станок. «А-а, это Мина, Таня, Кривой и Хиля, — догадался Сашка. — Тискают газетку «Анархия» или «Правду о махновщине».
Дача конспиративная. Чья — неизвестно, снята на деньги экс. Экспроприированные из рабочкопа в Туле три миллиона рублей. «Странно, бьемся за народное благо, а рванули у работяг… Пусть потерпят до Свободы, если не хотят, шавки, ее взять, — мерекал Шурка-боевик. — Белая и красная власти звереют от одного вида нашего черного знамени. Не допустят его, как говорит Казимир Ковалевич, даже над простоквашиыми лавочками».
Барановский со стоном поворочался в постели, стал отрывочно вспоминать, как потрошили еще в Москве пару народных (опять!) банков и в Иваново-Вознесенске взяли более миллиона. Пришлось кое-кому и пятки поджарить, чтоб открыл секреты сейфов. А что же прикажете делать со слугами диктатуры — нянчиться? Они, шавки, не больно-то щепетильны. Штаб Махно и Ворошилова был в одном бронепоезде… Ох, и жарко все-таки… Схватили, зверски расстреляли наших! Где совесть? Какая? Только порох и динамит — для сокращения энергии в борьбе. Нас же мало. Как там пишет Казимир в «Декларации анархистов подполья»?
Сашка нащупал листок на тумбочке, поднес к глазам. Рябило, пахло типографской краской. Ага, «кому претит издевательство человека над человеком и реки крови, и стоны насилия, производимые современным государством и капиталом, — всем вам шлет свой братский привет и призыв…» Рябит, твою ж маму. Ага, «Всероссийская организация анархистов подполья».
Хохол устал, откинулся на подушку, закрыл глаза и долго лежал в полузабытьи.
— Скучаешь, болезный? — услышал издалека. Это Таня или Мина принесла лекарство и еду. Близко не подходит. Правильно.
— Хлебни, милок. Авось отпустит.
Он нехотя проглотил горечь, заметил на стене игру светотени… Вся дача закачалась… Надо же было дураку зайти в лазарет к тифозному… Как жарко. Прямо Мариуполь…
Шурка работал в махновской контрразведке у Левы Зиньковского. Пили ведрами божественную мадеру, ловили кадетов, что прятались по чердакам, выколачивали золотишко… Таня и Мина заразятся, а ходят, ангелочки… Сюда Яша Глазгон доставил, длинный, светлый, вроде березы за окном, вместе орудовали в Мариуполе, да Петр Соболев, Казимир Ковалевич — чернорабочие анархии. А с ними генерал Гроссман-Рощин. Он и беседовал с Махно. Остальные слушали. Потом… или раньше? Какой-то еще полячок лез в полковники… Ага, Бржостэк… И не выговоришь. Бр-р… Как холодно! Окрутил саму Марусю Никифорову. Денег Батько дал боевикам. Смех! Полмиллиона! В Синельниково опоздали: чекисты уже пустили в расход махновский штаб. Теперь Кремль. Какой?
Сашка опять забылся. Плыл и плыл куда-то в тягучем лиловом мареве, еле загребая руками, ногами. Тонул, задыхался, пытался звать на помощь, а духу не хватало, хотя, казалось, орал изо всех сил: «Спа… спа… сите!» Рядом замедленно качалась голова лошади, пуча глаза. Какой-то махонький, с наперсток, кучерок стегал ее по гриве. Волосы тихо и мягко струились назад, далеко-далеко, шелковистыми прядями. Шурка барахтался в них, как тифозная вошь. Мизерный кучерок, ни дать ни взять Нестор Иванович, нащупал его ногтями, поднес поближе к себе и стал стрелять прямо в лоб тоненьким синим лучиком, приговаривая: «Бо-ишь-ся?’ Бо-ишь-ся?» Всё вдруг — и выпученные глаза лошади, бесконечные пряди, кучерок в них — обрушилось немо и в гигантском вихре закрутилось, полетело вниз. Хохол пытался зацепиться за что-нибудь, удержаться, но его несло и несло…