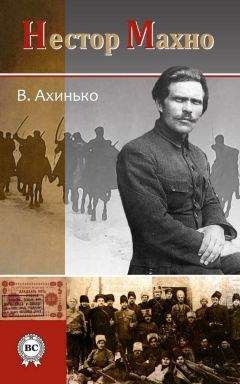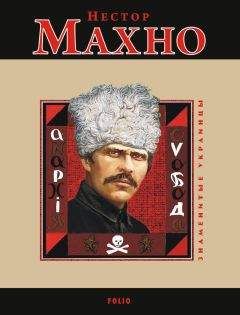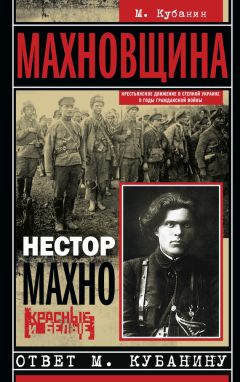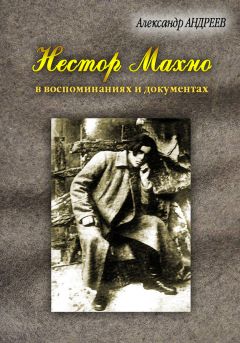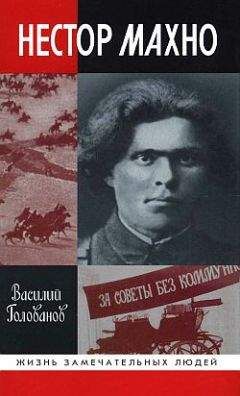— Да, — соврал Филипп.
— Эх ты, сбрехать даже не можешь, краснюк. Ржа ест железо, а лжа — душу. Запомни. За мной!
Штабной поезд отряда уже пригнали на станцию, и Анулов увидел, что около вагона политотдела толпятся махновцы с черным флагом. А на ступеньках сидел кто-то в алой гусарской форме и перебирал бумаги из походной сумки… Филиппа.
— Вот, Батько, привел тебе их командира, — с некоторым бахвальством доложил Калашников. «Неужели этот… сидит… Махно?» — не поверил Анулов. Большие начальники Красной Армии, которых он видел, так простецки себя не вели. Гусар поднял голову и ожег пленника воспаленным взглядом.
— Это ты написал приказ, что идут бандиты? — спросил он, кривя запекшиеся губы. Огоньки вспыхнули в его темных глазах, и они показались художнику голубоватыми. Теперь Филипп не сомневался, что это и есть Махно. Комок подступил к горлу, и муторно заныло под ложечкой. От человека, что простецки сидел на ступеньках вагона, исходила какая-то лешая сила, которой нельзя было противиться. Хам Калашников мог пристрелить. А этот ведь ничем не угрожал, поднялся, чиркнул спичкой и поджег приказ Анулова.
— Вникай! — сказал. — Бумага белая. Видишь? Горит и стала красной. А в конце концов… вот она. Черная! Так и в народе. Сейчас уже всё перегорело. Осталась одна надежда. Глянь на наш флаг. Понял?
Махно вскинул руку. Вокруг притихли.
— Большевики душат народную волю, — продолжал он хрипловатым тенорком. — Это видит каждый, кто не слеп. Но когда встречают отпор, когда их бьют, — голос его креп от слова к слову, — они удирают как зайцы. Вот он стоит, — Батько указал пальцем на Филиппа. — Их начальник. Тоже бежал, поджав хвост! Где Дыбенко? Где хваленый Ворошилов? Где мухомор Троцкий? Они бросили врагу нашу родную землю! Плевать им на хаты, на ваших жен и детей. А мы… здесь! И будем бить Деникина и прочую сволочь в хвост и в гриву. Пока не прикончим. Ура!
У вагона, слушая Батьку, толпились сотни повстанцев. Ответное мощное «Ура!» потрясло Анулова. Вот вождь, будь он проклят! Вот за кем пойдут в огонь и воду глупые хохлы.
На взмыленных конях подлетели двое. Филипп разглядел одного: черненький, с тонкими усиками. Да это же Миша Полонский! Печатник из Одессы. Свой, партиец! Прибыл на выручку! Тот спешился, протолкался к Батьке. Но что это? Они пожимают руки…
— Вот, товарищ Махно, привел тебе подмогу, — услышал Анулов, не веря своим ушам. — Десять тысяч штыков и сабель. Время грозное, и люди считают, что только ты можешь возглавить их против Деникина. Больше некому. Но помни — я большевик. До нашей веры не касайся!
— Чудак ты, — отвечал Махно. — Мне любой дорог, кто защищает свободу и Украину. Ану, дайте прапор!
Ему поднесли черный флаг с вышитым лозунгом «Мы горе народа потопим в крови».
— Бери, Полонский, приготовили специально для твоей железной дивизии.
Предатель протянул руку… Что было дальше. Филипп не видел — закрыл глаза от горя…
Ночью им с Настей удалось бежать в степь.
А к Батьке прибывали всё новые полки, вчера еще красные. В обозе одного из них, на подводах, ехали арестованные: командир бригады Кочергин, комиссар Дыбец с женой Розой, другие. Показалось большое село.
— Добровеличковка, — радостно сообщил возница. — Тут вся моя родня!
— Теплое имя дали, — озвался Дыбец, спрыгнул на дорогу и пошел рядом. Возница, которому было приказано караулить их, и ухом не повел. Винтовка его давно лежала в завале барахла. Куда им, комиссарам, бежать? Да и свои ж люди, простые.
— У нас есть ще еврэйска колония Добра и сэло Добрянка, — говорил крестьянин. — Скоро будэ ричэчка Добра. По-нашому, значыть вирна, чесна. Та й по-вашому, по-кацапськы, вроди так, га?
— Точно, точно, — подтвердил Дыбец, глядя на свои красные сапоги. Думалось: «Сидел бы с Розой в сытой Америке и горя б не ведал». По молодости лет, желая мир посмотреть и себя показать, Степан уехал за океан. Подметал улицу, язык учил, общался с русскими анархо-синдикалистами, которые и нашли ему место слесаря. Вместе основали газетку «Голос труда». Но в семнадцатом он не выдержал и в сапогах из красной кожи мотнул в Россию, свергал Керенского, потом большевиков, что распоясались, взяв власть. Бежал из Питера в Бердянск с Розой Адамовной, тоже бывалой анархисткой. У моря образовался ревком, где Степан сошелся со вчерашними врагами — большевиками. Тут налетели гуляйпольцы, контрразведку завезли. Дыбец возмутился, спорил с Махно. А вскоре подоспела Красная Армия, и он вовсе отказался от анархизма. При отступлении назначили комиссаром бригады. И вот он арестант…
В Добровеличковке красных командиров повели по улице, запруженной войсками, семьями повстанцев, беженцами, что располагались по дворам, под заборами. Над ними висели тяжелые ветки с желтыми грушами. Всюду бегали дети, ревел скот. «Как же воевать с такой обузой?» — недоумевал Дыбец.
К ним подъехали всадники. На белом коне — Махно. Ему что-то докладывали, он отвечал. Послышалось ледяное слово «расстрел». Среди них, однако, Степан с надеждой заметил Мишку Уралова, знакомого по Бердянску. Матрос-анархист, всегда взвинченный, горячий как порох, он легко хватался за наган. Но был добр и справедлив.
— Там же, я вижу, Дыбецы, жилы из них вон! — громко возразил Батьке Мишка. Они еще пошумели. Какой-то адъютант подъехал и велел Степану с Розой подойти к Махно.
— Что же ты, старая анархическая крыса! Куда влип? — спросил тот сурово. Крутолобый крепыш Дыбец молчал.
— А ты, Роза, помнишь, как сидели с тобой в екатеринославской тюрьме и ждали палача с веревкой?
— Не забыла, Нестор.
— Известно ли вам, что я у большевиков вне закона? Любой, кто прикончит меня, их друг. Так кто же вы тогда?
Дыбецы смущенно потупились. А что скажешь? Глупый звук мог решить их участь.
— Ну так вот, — продолжал Махно. — Рука у меня не поднимается на старых ренегатов. Может быть, это слабость, но я вас не расстреляю. Приказываю: чтоб волос не упал с их головы. Кто нарушит — лично коцну, и только! Чулы?
Окружающие закивали.
— Идите на все четыре стороны. Остальных держать до особого распоряжения, — он пришпорил коня и, словно боясь, что передумает, ускакал.
— Мотайте по этой улице до конца, жилы из вас вон! — оказал Дыбецам Мишка Уралов. — Увидите хату, где развесистая шелковица во дворе. Сошлетесь на меня и сидите как мыши. Контрразведка вас уже пасет. В этом кавардаке укокошат в два счета, — он усмехнулся, тонкие брови взлетели. — Мигом смывайтесь, пока он не вернулся и не отправил вас рыбке в зубы. Берегитесь Щуся с матросиками, а пуще — Леву Голика. Тот тихий, но вашу шкуру живо перекроит на лоскутки!
Мишка тоже ускакал.
— Позволь, а как же товарищи? — забеспокоилась Роза, оглядываясь.
— Самим бы, дорогая, ноги унести, — муж взял ее под руку, и они торопливо пошли искать развесистую шелковицу…
Уралов явился затемно, принес бутылку самогона. Закуску дали хозяева. Сели за стол втроем.
— Не сладко пока, не сладко, — говорил Мишка, хрустя малосольным огурцом. — Кадеты прут. У вас вон были регулярные войска, оружие, хлеб, деньги — вы позорно бежали. А нам каково? Я тоже из России, но, в отличие от Троцкого, о-ох, больно это перевариваю. Местным куда? Белой рыбке в зубы? У них же семьи, у того же Махно, Калашникова, у Федьки Щуся, да у кого хошь. Разве потащишь с собой на север? А раненые? У нас их сотни!
— Ты прав, — согласилась Роза. — Это трагедия. Но пойми же и нас…
— Ково там? — Мишка махнул рукой и рванул рубаху на груди. — Глянь сюда, глянь!
Там был выколот зубастый дракон.
— Вот тебе, Розочка, наглядно наш север: голодный и злой. Ему еще нахлебников не хватало. Он сам кого хошь сожрёт! А тут, видали, груши с кулак, дули называются. Куда бежать от них?
Еще выпили.
— Не серчайте на меня, — попросил Мишка. — Маленько, тово, люблю шебутнуть. В общем состоялся у нас сегодня реввоенсовет. Именуемся теперь Украинская повстанческая армия! Это вам не хрен собачий. Обозы сокращаем вдвое, чтоб маневр иметь. На телеги ставим пулеметы, коней — под сабли. Образовали четыре корпуса. Донецким командует Сашка Калашников. Азовским — тоже знаете его — Трофим Вдовыченко, готовый генерал. Жаль, что его земляк сбежал. Огненный характер! Я сам такой…
— Куриленко, Василь? — уточнил Дыбец.
— А то кто же? Ох, забубенная головушка. Подался с вашими, кавалерийский полк увел, дурак.
— Слышал, как Василий моих комиссаров воспитывал-испытывал? — спросил, улыбаясь, Степан. — Нет? Назначили ему новенького. Твердого партийца. Дал ему Куриленко бинокль: «Замечаешь казачий разъезд в селе?» — «Вижу». — «Поехали к ним молоко пить».
— К белякам? — не поверил Уралов.
— Ну, конечно. Те на одном конце села, а комиссар с Василием прибыли на другой. Купили у бабки молока, пьют. Прискакал белоказак: «Из какой части будете?» — «А у тебя кто командир?» — интересуется Василий. «Такой-то». — «Лети к нему и доложи, обормоту, что красный полковник Куриленко тут молоко пьет!» Казак оцепенел. Василий достал наган: «Ну, кому говорю!» Того и ветром сдуло. А наши возвратились в полк. «Ты, гляжу, настоящий, — сказал комиссару Куриленко, — с тобой работать можно».