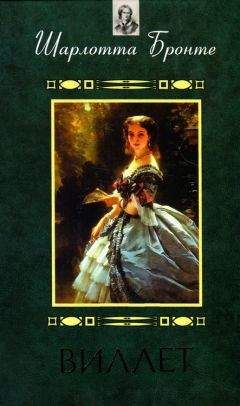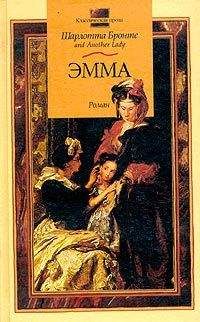— Что с вами, Люси? — спросил он, пристально в меня вглядываясь. — Опять вам не по себе. О! Снова монахиня?
Я горячо отрицала его подозрения. Он уличал меня в том, что я снова поддалась обману чувств, чем раздосадовал меня. Он не хотел мне верить.
— Она приходила, клянусь, — сказал он. — Являясь перед вашими глазами, она оставляет в них отблеск, какой ни с чем не спутаешь.
— Но ее не было, — настаивала я, и ведь я не лгала.
— Вернулись прежние признаки болезни, — утверждал он, — особенная бледность и то, что француз назвал бы «опрокинутое лицо».
Его было не переспорить, и я сочла за благо рассказать ему обо всем, что увидела. Разумеется, он рассудил по-своему: мол, все это порожденье тех же причин, обман зрения, расстроенные нервы и прочее. Я нисколько ему не поверила, но противоречить не решилась — доктора ведь все такие упрямцы, так неколебимы в своих сухих материалистических воззрениях!
Розина принесла шаль, и меня усадили в карету.
Театр был полон, буквально набит битком, явилась придворная и знатная публика, обитатели дворца и особняков хлынули в партер и кресла, наполняя зал сдержанным говором. Я радовалась тому, что удостоилась чести сидеть перед этим занавесом, и ждала увидеть существо, чья слава наполняла меня таким нетерпеньем. Оправдает ли она мои надежды? Готовясь судить ее строго и беспристрастно, я, однако ж, не могла оторвать глаз от сцены. Я еще не видывала людей столь необыкновенных и хотела узнать, что являет собой великая и яркая звезда. Я ждала, когда же она взойдет.
В тот декабрьский вечер она взошла в девять часов. Над горизонтом засияли ее лучи. Свет их тогда еще был полон ровной силы, но эта звезда уже клонилась к закату. Вблизи были заметны в ней признаки близкой погибели, упадка. Так догорает яркий костер — огонь еще есть, но вот-вот опадет темной золой.
Мне говорили, что эта женщина дурна собою, и я ожидала увидеть черты грубые и резкие, нечто большое, угловатое, блеклое. Увидела же я тень царственной Вашти: королева, некогда прекрасная, как ясный день, потускнела, как сумерки, истаяла, как восковая свеча.
Какое-то время она мне казалась всего лишь женщиной, хоть и удивительной женщиной, в силе и славе явившейся перед пестрым собранием. Скоро я поняла свое заблужденье. Как я ошиблась в ней! Я увидела перед собой не женщину, вообще не человека; в каждом глазу у ней сидело по черту. Исчадья тьмы питали ее слабые силы — ибо она была хрупким созданием. По ходу пьесы росло волненье, и они все более сотрясали ее страстями преисподней. Они начертали на ее высоком челе слово «Ад». Они придали голосу ее мучительные звуки. Они обратили величавое лицо в сатанинскую маску. Они сделали ее живым воплощеньем Ненависти, Безумия, Убийства.
Удивительно тоскливо было смотреть на это. На сцене творилось нечто низкое, грубое, ужасное.
Пронзенный шпагой фехтовальщик, умирающий в своей крови на песке арены, конь, вспоротый рогами быка, не так возбуждали охочую до острых приправ публику, как Вашти, одержимая сотней демонов, — вопящих, ревущих, неотступных.
Страдания терзали царицу сцены, но она не покорялась им, не сдавалась, их не отторгала, нет, — неуязвимая, она жаждала борьбы, ждала новых ударов. Она стояла не в платье, но окутанная античным плащом, стояла прямо, подобно статуе. На пурпурном фоне задника и пола она выделялась, белая, как алебастр, как серебро, — нет, как сама Смерть.
Где создатель Клеопатры? Пусть бы явился он сюда и поглядел на существо, столь не похожее на его творенье. Он не нашел бы в нем мощной полнокровной плоти, столь им боготворимой. Пусть бы пришли сюда все материалисты, пусть бы полюбовались!
Я сказала, что муки она не отторгала. Нет, слово это чересчур слабо, неточно и оттого не выражает истины. Она словно видела источник скорбей и готова была тотчас ринуться с ними в бой, одолеть их, низвергнуть. Сама почти бесплотная, она устремлялась на войну с бедами. В борьбе с ними она была тигрица, она рвала на себе напасти, как силок. Боль не вела ее к добру, слезы не приносили ей благой мудрости, на болезни, на самоё смерть смотрела она глазами мятежницы. Вздорная, быть может, но крепкая, она силой покорила Красоту, одолела Грацию, и обе пленницы, безусловно прекрасные, столь же безусловно были ей послушны. Даже в минуты совершенного неистовства все движения ее были царственны, величавы, благородны. Волосы, растрепавшиеся, как у бражницы или всадницы, оставались все же волосами ангела, сияющими под нимбом. Бунтующая, поверженная, сраженная, она все же помнила небеса. Свет небес следовал за нею в изгнанье, проникал в его пределы и озарял их печальную опустошенность.
Поставьте перед ней препятствием ту Клеопатру или иную ей подобную особу, и она пройдет ее насквозь, как сабля Саладина вспарывает пуховую подушку. Воскресите Пауля Петера Рубенса, поднимите из гроба, поставьте перед нею вместе с полчищами пышнотелых жен — и она, этот слабый жезл Моисеев, одаренный волшебной властью, освободит очарованные воды, и те хлынут из берегов и затопят все их тяжкие сонмы.
Мне говорили, что Вашти недобра, и я уже сказала, что сама в этом убедилась; хоть и дух, однако ж дух страшного Тофета.[203] Но коли ад порождает нечестивую силу, такую могучую, не прольется ли однажды ей в ответ столь же великая благодать свыше?
Что думал о ней доктор Грэм? Я надолго забыла на него смотреть, задавать ему вопросы. Власть таланта вырвала меня из привычного мира; подсолнух отвернулся от юга и повернулся к свету более яркому, не солнечному, — к красной раскаленной слепящей комете. Я и прежде видывала актерскую игру, но не предполагала, что она может быть такой — так сбивать с толку Надежду так ставить в тупик Желанье, обгонять Порыв, затмевать Догадку. Вы не успели еще вообразить, что покажут вам через мгновенье, не успели ощутить досаду оттого, что вам этого не показали, а уж душу вашу захватил восторг, будто бурный поток низвергся шумным водопадом и подхватил ее, словно легкий лист.
Мисс Фэншо с присущей ей зрелостью суждений объявила доктора Бреттона человеком серьезным, чувствительным, слишком мрачным и слишком внушаемым. Мне он никогда не являлся в таком свете, подобных недостатков я не могу ему приписать. Он не склонен был ни к задумчивости, ни к бурным излияниям; впечатлительный, как текучая вода, он, почти как вода, не был внушаем — легкий ветерок мог его всколыхнуть, но он мог выстоять в языках пламени.
Доктор Джон умел думать, и думать хорошо, но он был человек действия, не мысли; он умел чувствовать, и чувствовать живо, но он не отдавался порывам. Он вбирал светлые, нежные, добрые впечатленья, как летние облака вбирают багрец и серебро, зато все, что несет грозу, бурю, пламя, опасность, оставляло его чуждым и безучастным. Когда я наконец-то взглянула на него, я, к облегчению своему, обнаружила, что он следит за мрачной всесильной Вашти не с изумленьем, не с восхищеньем и не со страхом даже, а лишь с большим любопытством. Ее муки его не задевали, ее стоны — хуже всяких воплей — его не трогали, неистовство ее, пожалуй, его отталкивало, но не внушало ему ужаса. Холодный юный бритт! Бледные скалы его родного Альбиона не так спокойно смотрят в воды канала, как он смотрел сейчас на жреческий огонь искусства!
Глядя на его лицо, я захотела узнать его мнение и наконец спросила, что он думает о Вашти. Звук моего голоса словно разбудил его ото сна, ибо он глубоко погрузился в собственные думы.
— М-м, — был его первый, не вполне внятный, зато выразительный ответ, а затем на губах его заиграла странная усмешка, холодная, бессердечная.
Полагаю, как и подобные ему натуры, он и был бессердечен. Несколькими фразами он сжато высказал свое мнение о Вашти. Он судил о ней не как об актрисе, но как о женщине, и приговор оказался безжалостным. Вечер уже был отмечен в моей книге жизни не белым, а ярко-красным крестом. Но еще он не кончился; ему суждено было навсегда остаться в моей памяти, запечатлеться в ней неизгладимыми письменами благодаря еще одному важному событию.
Перед самой полуночью, когда трагедия подошла к финалу, к сцене смерти, все затаили дыхание и даже Грэм закусил губу, наморщил лоб и затих; когда все замерли и все глаза устремились в одну точку, уставясь на белую фигуру, дрожащую в борьбе с последним, ненавистным, одолевающим врагом, когда все уши вслушивались в стоны, хрипы, все еще исполненные непокорства, когда смерть на вызов и нежелание ее принять отвечала последним «нет!» и всесильным «покорись!», — тогда-то по залу пронесся шорох, шелест и за сценой раздался топот ног и гул голосов. «Что случилось?» — спрашивали все друг у друга. И запах дыма был ответом на этот вопрос.
— Горим! — пронеслось по галерее. — Горим! — повторяли, орали сотни голосов.
Затем с быстротой, за какой не поспеть моему перу, театр охватило ужасное, жестокое и слепое волненье.