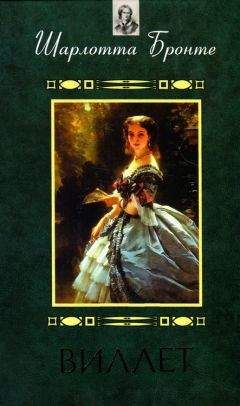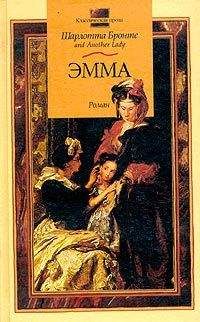— Горим! — пронеслось по галерее. — Горим! — повторяли, орали сотни голосов.
Затем с быстротой, за какой не поспеть моему перу, театр охватило ужасное, жестокое и слепое волненье.
А что же доктор Джон? Читатель, я и теперь еще так и вижу его лицо, спокойное и мужественное.
— Я знаю, Люси, вы будете сидеть на месте, — сказал он, глядя на меня с точно той же ясной добротой и твердостью, какую я видела в нем, сидя в уютной тишине у очага в доме его матушки.
С такой поддержкой я, верно, сидела бы тихонько и под рушащейся скалой, тем более что по природе своей я бы и не шелохнулась ни за что на свете, только бы не нарушить его волю, не ослушаться его, ему не помешать. Мы сидели в креслах, и через несколько секунд нас уже отчаянно теснили.
— Как женщины напуганы! — сказал он. — Но если бы мужчины им не уподоблялись, легко было бы сохранить порядок. Печальная картина — я вижу с полсотни себялюбивых грубиянов, не меньше, которых, будь я к ним поближе, с удовольствием вздул бы. Иные женщины смелей мужчин. Вон там, например… О боже!
Пока Грэм говорил, молодую девушку, спокойно державшуюся за локоть седовласого господина неподалеку от нас, какой-то громила оттеснил от спутника и повалил прямо под ноги толпе. Грэм, не теряя ни секунды, бросился на выручку. Вместе с седовласым господином они растолкали толпу, и Грэм поднял пострадавшую. Голова ее откинулась ему на плечо, длинные волосы разметались; она была, кажется, без сознания.
— Доверьте ее мне, я врач, — сказал доктор Джон.
— Если вы без дамы, будь по-вашему, — отвечал господин. — Берите ее, а я расчищу дорогу — надо поскорей вынести ее на свежий воздух.
— Я с дамой, — сообщил Грэм. — Но она не будет нам помехой.
Он взглядом подозвал меня к себе — толпа уже нас разделила. Я решительно к нему устремилась и, как могла, то бочком, то чуть ли не ползком, протиснулась сквозь толпу.
— Держитесь за меня покрепче, — приказал он, и я послушалась.
Вожатый наш оказался сильным и ловким, он клином врезался в людскую гущу. С терпеньем и упорством он наконец прорубил живую скалу — горячую, плотную, копошащуюся — и вывел нас под свежий, прохладный покров ночи.
— Вы англичанин! — обратился он к доктору Бреттону, едва мы очутились на улице.
— Англичанин. И, верно, имею честь разговаривать с соотечественником? — был ответ.
— Да. Прошу вас, побудьте здесь минутку, пока я отыщу свою карету.
— Со мной ничего не случилось, — произнес девичий голос. — А где папа?
— Я ваш друг, а папа неподалеку.
— Скажите ему, что со мной все в порядке, только плечо болит. Ой! На него наступили.
— Возможно, растяжение, — пробормотал доктор. — Надо надеяться, ничего больше. Люси, дайте-ка руку.
Я помогла ему поудобней устроить девочку. Она сдерживала стоны и лежала у него на руках тихо и послушно.
— Какая легонькая, — сказал Грэм, — совсем ребенок! — И он шепнул мне на ухо: — Она еще маленькая, да, Люси? Как вы думаете, сколько ей лет?
— Вовсе я не ребенок, мне уже семнадцать лет, — с достоинством заявила его подопечная. И тотчас добавила: — Пусть папа придет, мне без него страшно.
Карета подъехала. Отец девочки сменил Грэма. Но когда ее передавали с рук на руки, ей причинили боль, и она застонала.
— Милая моя! — сказал отец нежно и обратился к Грэму: — Вы говорите, сэр, что вы врач?
— Да. Доктор Бреттон, проживаю на вилле «Терраса».
— Не угодно ли сесть в мою карету?
— Меня ждет моя. Я пойду поищу ее и поеду следом.
— Сделайте милость. — И он назвал свой адрес: — Отель Креси на улице Креси.
Кучер то и дело погонял лошадей. Мы с Грэмом оба молчали. Начиналось необычайное приключение.
Мы не сразу нашли свою карету и добрались до «отеля» минут через десять после незнакомцев. То был «отель» в здешнем понимании слова — целый квартал жилых домов, а не гостиница, — просторные высокие здания с огромной аркой над воротами с крытым переходом, ведущим во внутренний дворик.
Мы высадились, прошли по широким мраморным ступеням и вошли в номер второй во втором этаже: бельэтаж, как объяснил мне Грэм, отвели какому-то русскому князю. Позвонив в дверь, мы получили доступ в анфиладу прекрасных покоев. Слуга в ливрее доложил о нас, и мы ступили в гостиную; там, как где-нибудь в Англии, горел камин, а на стенах сверкали чужеземные зеркала. У камина теснилась группка — небесное создание утонуло в глубоком кресле, подле хлопотали две женщины и стоял седой господин.
— Где Хариет? Пусть она придет ко мне! — слабо произнес девичий голосок.
— Где миссис Херст? — нетерпеливо и строго осведомился седой господин у доложившего о нас слуги.
— Барышня, на беду, сама отпустила ее до завтра.
— Да, верно. Я отпустила ее. Она поехала к сестре. Я отпустила ее, теперь я вспомнила, — откликнулась барышня. — Так жаль! Манон и Луизон ни слова моего не понимают и, сами того не желая, делают мне больно.
Доктор Джон и седой господин, обменявшись поклонами, принялись совещаться, а я тем временем направилась к креслу и сделала все, о чем просила бедняжка. Я еще помогала ей, когда подошел Грэм. Столь же умелый костоправ, как и врачеватель прочих недугов, осмотрев больную, он заключил, что случай несложный, серьезных повреждений нет и он справится сам. Он велел горничным отнести ее в спальню и шепнул мне на ухо:
— Идите и вы, Люси; они, кажется, бестолковые. Последите за ними, чтоб не сделали ей больно. С ней надо обращаться очень осторожно.
Спальню затеняли тяжелые голубые шторы и дымка муслиновых занавесок; постель показалась мне снежным сугробом или облаком, до того была она воздушная и сверкающая. Отстранив женщин, я раздела их госпожу без помощи этих служанок, добронамеренных, но неловких. Тогда мне было не до того, чтоб замечать отдельные предметы ее одежды, но я вынесла общее впечатление изысканности, утонченности, изящества, и уж потом, размышляя на досуге, я дивилась тому, насколько не похоже все это было на оснастку мисс Джиневры Фэншо.
Сама девушка была маленькой, хрупкой и сложена как статуя. Откинув ее густые легкие волосы, мягкие, сияющие и ароматные, я разглядела юное, измученное, но благородное лицо, лоб, ясный и гладкий, тонкие неяркие брови, ниточками убегающие к вискам. Природа подарила ей удивительные глаза — огромные, глубокие, ясные, они словно господствовали над остальными чертами, быть может, в иное время и значительными, но сейчас как-то потерявшимися. Кожа у нее была гладкая и нежная, шею и руки, словно цветочные лепестки, испещряли нежные жилки. Тонкий ледок гордости подернул ее черты, а изгиб губ, без сомнения, неосознанный, приведись мне увидеть его впервые в обстоятельствах иных, более счастливых, показался бы мне непозволительным свидетельством того, что юная особа чересчур высокого о себе мнения.
Поведение ее, когда доктор Джон ее осматривал, сперва вызывало у меня улыбку. Она вела себя по-ребячески, однако же вдруг обращалась к нему до странности резко и требовала, чтоб он поосторожней касался ее и не мучил. Большие глаза то и дело устремлялись на его лицо, а взгляд был изумленный, как у милого ребенка. Не знаю, чувствовал ли Грэм, что она его изучает, но если и чувствовал, то ничем себя не выдал и ни разу не спугнул ее ответным взглядом. Он делал свое дело с редким тщанием и заботой, стараясь, сколько возможно, не причинять ей боли, и был вознагражден произнесенным сквозь зубы:
— Спасибо, покойной ночи, доктор.
Она едва пробормотала эти слова, однако же дополнила их глубоким прямым взором, удивительно твердым и пристальным.
Повреждения оказались неопасны; отец ее встретил это заключенье с улыбкой, такой благодарной и счастливой, что она тотчас меня к нему расположила. Он принялся выказывать Грэму свою признательность, оставаясь, разумеется, в рамках, какие положены англичанину при обращении с незнакомцем, пусть и сослужившим ему добрую службу. Он пригласил его завтра же прийти с визитом.
— Папа! — раздался голос из-за полога кровати. — Поблагодари и даму. Она еще здесь?
Я раздвинула полог и с улыбкой посмотрела на нее. Боль отпустила ее, и она лежала спокойная, бледная, но хорошенькая. Тонкое ее лицо лишь на первый взгляд казалось гордым и заносчивым; теперь же на нем светилась нежность.
— Я весьма признателен нашей новой знакомой, — откликнулся отец, — за ее доброту к моей дочери. Уж и не знаю, как рассказать миссис Херст о том, что ей нашлась замена; боюсь, как бы она не стала ревновать и стыдиться.
Полные самых дружеских чувств, мы откланялись, отказались от гостеприимного приглашения подкрепиться, сославшись на поздний час, и покинули отель Креси.
На возвратном пути мы проезжали мимо театра. Он тонул во тьме. Стояла мертвая тишина; ревущая, бурлящая толпа исчезла, будто ее здесь не бывало; фонари погасли, как и злополучное пламя. На другое утро газеты сообщали, что это искра упала на обрывок декорации, он вспыхнул, но его тотчас погасили.