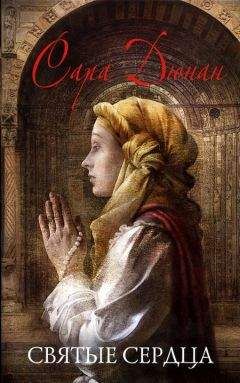Но с годами провозглашенный мною принцип сделал меня одиноким. Вот почему я сейчас сижу в церкви и гляжу на женщину, в чьем обществе я мог бы обрести и ум, и блеск, и поддержку, но продолжаю проклинать ее лишь оттого, что у нее слишком много общего со мной.
Мы очень долго сидим склонив головы, и каждый из нас погружен в мысли. Я настолько глубоко ухожу в свои размышления, что упускаю миг, когда она бесшумно встает и покидает скамью. На миг я пугаюсь, что потерял ее из виду. Я подхожу к центральным воротам, когда она уже вышла на улицу, и оказываюсь на ярком свету, резком, как удар. Некоторое время глазам приходится приспосабливаться к этому, а потом я вижу, как она идет по узкой боковой улочке.
Теперь она идет более уверенно. Даже сама ее походка сделалась быстрее, словно здесь она знает наизусть каждый шаг.
Я не сомневаюсь, что так оно и есть, и вскоре оказывается, что ее цель совсем близка. Шагов через двести от церкви начинаются мастерские. Это ряд зданий с трубами, затем идут склады, а чуть далее виднеются маленькие жилые дома. Завернув за угол, я вижу, как она входит в один из этих домиков.
Теперь я снова в растерянности. Что мне делать? Подойти, постучать в дверь и представиться? «Эй! Здесь Елена Крузики? Да? Хорошо. Понимаете, я следовал за вами по пятам всю дорогу, чтобы сказать вам, что все эти годы ошибался в вас. А еще мне кажется, что у нас, возможно, много общего, и мне хочется получше вас узнать».
Она решит, что я спятил после горячки, и я, пожалуй, готов с этим согласиться сейчас. На улице жарко, от усталости у меня гудят ноги и кружится голова. Недели не прошло, как я умирал. Похоже, сейчас мне опять грозит смерть. В животе уже начинаются колики, мне мерещится та свинья, что жарилась на вертеле посреди площади, и от этого видения у меня начинают течь слюнки. Ну конечно! У меня же за все утро во рту только и было, что два стакана грубого пойла. А может быть, я ощущаю слабость вовсе не из-за влюбленности, а просто от голода? Я ничего не стану предпринимать, пока не поем.
Я возвращаюсь к улицам. Главная улица — если только она здесь существует, — похоже, тянется параллельно верфи, и чуть поодаль я вижу лавки, вокруг которых толкутся люди. Поблизости кто-то стряпает, и я иду на запах еды. Когда я появляюсь на маленькой полукруглой площади, все замирают в изумлении. По-видимому, карлики — редкие гости на Мурано. Мальчишка с расплющенным лицом и глазами-изюминками подходит ко мне вплотную и пристально меня разглядывает. Мне ничего не остается, как широко улыбнуться ему, и он разражается слезами. Можно не сомневаться, что, пока я не поем, мне не следует ни с кем разговаривать. Я выбираю открытую лавку, где торгуют жареным мясом и свежим хлебом, а продавец слишком стар и слаб глазами, чтобы разглядеть, что за урода он обслуживает. Как только мне в желудок попадают первые куски пищи, я задумываюсь: а не лучше ли мне отказаться от погони за женщинами и предпочесть вкусную еду? Должно быть, я жадно жую, потому что люди все еще глазеют на меня. Утолив голод, я решаю воспользоваться вниманием окружающих. Я начинаю подбрасывать высоко в воздух несколько булочек, которые брал к мясу, и ловлю их. Затем беру еще несколько — и вот все они безостановочно кружатся. Теперь даже тот мальчишка перестал реветь и глядит на меня с раскрытым ртом. Жонглируя, я строю смешные рожи, а через некоторое время притворяюсь, будто вот-вот уроню булочку, но вовремя ее ловлю. Трое или четверо громко ахают. Мне вспоминается Альберини и его излюбленный фокус с хрустальным кубком. Теперь, досыта наевшись, я хочу немного позабавиться. Ведь я произведу на Корягу лучшее впечатление, если явлюсь к ней, ободренный восхищением людей, а не расстроенный их равнодушием.
Через несколько лавок торгуют изделиями из стекла. Это неуклюжие поделки по сравнению с теми, что я видывал в Венеции, в них полно примесей и пузырьков. Лучшее стекло конечно же вывозится отсюда, а сами стекольщики вынуждены довольствоваться остатками. Зато они достаточно дешевы для человека с моим доходом, который решил отдохнуть в праздник после стольких лет работы, и я покупаю сразу пять бокалов.
Я останавливаюсь на обочине дороги, доедаю две оставшиеся колбаски и вытираю руки об траву, чтобы они не были жирными. Потом снимаю шляпу, беру бокалы и принимаюсь жонглировать. Это не так легко, как булочками, ведь стаканы тверже, они разной формы и веса, а значит, нужно к этому приноровиться, чтобы не уронить их.
Вокруг меня собралась небольшая толпа, и люди начинают хлопать. Я очень доволен. Давно уже я не испытывал этого радостного ощущения, когда ум и тело действуют сообща. Когда я в последний раз жонглировал перед зрителями? Изредка в первые дни нашего успеха в Венеции? А до того — в ту, последнюю ночь в Риме. О Боже, тогда я чувствовал в себе достаточно жизненных сил: возбуждение, вызванное страхом, пронизывало все мое тело будто хмель. И хотя теперь мне не грозит никакая опасность, я ощущаю похожее волнение: виной тому жара, незнакомое место, мысли о Коряге и неожиданно обретенный смысл жизни.
Все, что от меня требуется, — это не сводить глаз с летающих бокалов.
Оправдываясь, я думаю о том, что, если бы она пришла, как приходила обычно, я увидел бы ее раньше, потому что в глубине души ждал ее.
И случается вот что — я становлюсь самонадеянным и, пожалуй, немного утомляюсь. Зрители столпились уже в пять или шесть рядов. Кто-то кидает монетку мне в шляпу, и я подмигиваю в знак благодарности. Обычно я проделывал такое перед хорошенькими девушками. Движение выходит неловким, и я едва не промахиваюсь, ведь тут проморгать долю секунды — все равно что опоздать на час. Испугавшись, что я все испорчу, я делаю яростный рывок, чтобы подхватить падающий бокал, и чудом успеваю. Зрители веселятся, а я строю рожи, и они решают, что я все это подстроил нарочно. И тогда я делаю вид, будто снова промахиваюсь, подбрасывая бокалы немного наискосок, так что мне приходится шататься, чтобы поймать их. А народу это нравится. Пошатываясь, я приближаюсь к толпе. Люди сторонятся, давая мне пройти, и вот уже я жонглирую на ходу, подбрасывая в воздух крутящееся, переливающееся на солнце стекло, а вокруг меня слышится смех и одобрительные хлопки в ладоши.
И вдруг у меня на пути появляется маленький ребенок. Он уставился на меня вытаращенными глазенками и не двигается, словно прирос к земле. Взмывший вверх бокал оказывается слишком далеко от меня и слишком близко к малышке, и на этот раз я не успеваю поймать его. Он падает наземь и разбивается у ног девочки. Я быстро подхватываю остальные, а потом опускаюсь на корточки рядом с ней, чтобы убедиться, что осколки ее не задели. Но нет, девочка цела и невредима. Похоже, она даже нисколько не испугалась. Она совсем крошечная, а в таком возрасте самостоятельно держаться на ногах — уже достижение, и ножки у нее почти такие же кривые, как у меня. Но примечательна она не своим малым возрастом, а наружностью. У нее бледная, очень бледная кожа, на голове корона из буйных кудряшек, таких светлых, что они кажутся почти белыми, а глаза карие, похожи на две крупные миндалины, и смотрят они на меня очень внимательно, но без малейшего страха. Я улыбаюсь — скорее глазами, чем губами, и медленно протягиваю девочке один из уцелевших бокалов, и она какое-то время рассматривает его, а потом вытягивает ручку и дотрагивается до него. И в тот миг, когда она это делает, из толпы вдруг выбегает женщина и отчаянно зовет малышку по имени. Убежавший ребенок и звук бьющегося стекла — это встревожило бы любую мать. Когда она врывается внутрь людского кольца, где мы стоим, склонившись над бокалом, ребенок поворачивается и глядит на мать.
Я тоже.
Как странно, что глаз способен вобрать столько в одно мгновенье! На самом деле, сложись все иначе, я бы, пожалуй, не узнал ее вовсе. Коса расплетена, волосы высоко подобраны заколками, а вокруг щек вьется несколько непослушных прядей. Ей очень идет такая прическа, потому что держится она иначе: ее тело внезапно избавилось от болезненной сутулости, и она стройна и гибка, как лоза. Она очень хороша собой. Это я запомнил точно — и не забуду до самой смерти. Но сейчас я не успеваю сказать ей об этом, потому что она стремительно бросается к девочке и, схватив ее, крепко прижимает к груди, их головы смыкаются, лиц не видно. А потом она начинает так же ожесточенно протискиваться обратно сквозь толпу. Только малышка отчаянно сопротивляется. Ее оторвали от игры, и она извивается, верещит и вырывается из рук матери, так что женщина вынуждена приподнять лицо, хотя на столь краткий миг, что я сам не до конца уверен в том, что все рассмотрел. Кожа у нее такая же гладкая и белая, как всегда. Но глаза — глаза другие! Если раньше они казались провалами в пустоту, затянутыми молочной пленкой, то теперь они живые и сердитые. Она в тот же миг снова склоняется над ребенком, но уже поздно.