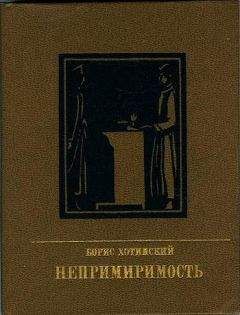— Ага, теперь и ты богохульствуешь!
— Нисколько. Богу — богово, кесарю — кесарево. Надо издать постановления…
— Мало их было издано, что ли? А выполняется ли хоть одно? Поменьше воскресных проповедей, побольше власти! Вот что нам необходимо сейчас. Надо возродить девиз Первого Полководца: «Метко, сильно, быстро!» Во всех сферах жизни. И все равно… Все равно такие, как мы с тобой, осуждали бы Императора. За недостаточную демократичность. Не за одно, так за другое. Как бы он ни поступал. Потому что его дело — царствовать, а наше дело — ворчать. Будь она проклята, наша старость! Не был бы я сейчас старым крючком, разве позволил бы я своим сыновьям — лучше бы им никогда не появиться! — разве позволил бы я им беспутничать и не считаться с выкормившими и вырастившими их родителями? Нынешние детки паразитируют на родительской любви, как клопы на твоих квартиросъемщиках!
— Но родительская любовь от этого не убывает? — парировал домовладелец.
— Смотря чья. Родитель родителю рознь. И будь я помоложе, я бы…
— Что ты бы?
— Я бы снова пошел в гвардию, где скоро придется служить… бабам! Да, бабам! Потому что мужчины стали хуже баб, я не говорю о евнухах. Где наша былая гвардия? Где наша былая армия? Где они, где?!
— Тише, пожалуйста, потише. Ты так расшумелся, могут услышать…
— Плевать! Что они могут мне сделать? Что мне терять, наконец? Пускай слушают! И ты тоже слушай. Я не спрашиваю, как некоторые, где наша казна. Я спрашиваю: где наша армия? Почему из шестисот сорока пяти тысяч регулярного имперского войска осталось всего сто пятьдесят тысяч? Где остальные? Погибли в сражениях? Вранье!
— Куда же они подевались?
— Откуда мне знать? Потому и спрашиваю. А где гарнизоны наших пограничных крепостей на Истре? Сколько их мы в свое время построили и укрепили! И сколько разрушили — сами же! Чтобы не достались склавинам. Все равно достались… Так почему же нашлось кому разрушать, но не нашлось кому защищать? Растолкуйте мне, старому воину. Не понимаю! Или мой рассудок так же ослабел, как мои руки? А ты видел сейчас, когда мы проходили мимо Больших стен, видел, в каком они состоянии? Это — в столице. Что же тогда говорить о провинциях? Нет хозяина, нет порядка!.. И ты тоже хорош, дорогой… Чем строить свои многоэтажные голубятни для ощипанных воробьев, лучше бы отремонтировать хоть пару башен вдоль Больших стен.
— А кто бы оплатил мне эти работы? Император, что ли?
— Оставь в покое Императора. Еще смерть Императрицы подсекла его. В конце концов, у каждого человека есть своя ахиллесова пята, своя главная слабость. Даже у Императора. Его главной слабостью была Императрица, мир праху ее. Жаль, не завели они детей. Племянники уже грызутся из-за наследства и престола — при живом дяде! Вот мы его осуждаем за то за се. А где гарантия, что новый не окажется во сто крат хуже?
— Хуже, чем сейчас, некуда.
— Послушаем, что ты запоешь при новом. Император… он просто стар. Ты видел позавчера, на ипподроме, как опухли его глаза? Щелки в подушках! Он стар и немощен, как ты и я. Вот где причина всех наших бед — моих, твоих, всего Второго Рима. Когда так много знаешь и так мало можешь…
— Взгляни-ка! — прервал его собеседник встревоженным голосом. — Стасиоты [61]…
— Что?! Лучше бы не родились их отцы! Где?
— Да вон же, идут как раз нам навстречу. Подумать только! Ведь иные — из знатных и зажиточных семейств…
— Давно ли ставших знатными и зажиточными? Вчера еще жалкий оборванец, а сегодня придворный сановник! Как тут не вскружиться непривычной голове? Как не избаловать отпрысков? Вот и… Впрочем, мои не многим лучше… Когда господь создавал человека, он был усталым к концу недели…
— Ты опять богохульствуешь!.. Куда бы нам свернуть?
— Теперь уже некуда. Проклятая старость!..
Молодые и рослые, как гвардейцы, они приближались к старикам неторопливо, перегораживая освещенную солнцем улицу. Бороды не по возрасту. И «гуннские» (последний крик моды!) прически: ровно подрезанная челка и локоны по плечи. Модные хитоны с пышными буфами над тесными рукавами расхристаны — видны крестики на тонких дорогих цепочках. Небрежно наброшенные богатые плащи украшены понизу яркой варварской вышивкой. Из-под плащей виднелись короткие мечи и длинные кинжалы. И — тоже по последней моде — остроносые полусапожки, удар твердым носком такой обуви свалит хоть кого…
Приблизились. Запахло недавно выпитым вином. Один, видимо вожак, самый расфуфыренный, глядя как бы мимо равнодушными бесцветными глазами, заметил, обращаясь к ветерану:
— Браслеты твои не по мерке, болтаются. А мне — как раз в самую пору. И хватит кланяться, разогнись, я разрешаю.
Ветеран, багровея, молчал.
— Да как вы смеете… — пискнул было каким-то явно не своим голосом домовладелец, но другой стасиот, сжав крепкими длинными пальцами его трясущиеся от негодования и страха полные бритые щеки, улыбнулся одним только ртом — глаза не улыбались, глядели нагло.
— Ты, толстый, помалкивай. Пока не покрасили пурпуром лысину. Понял? И готовь свое золотишко. Да поживей, а то нам некогда.
Домовладелец замолчал. Но тут не выдержала душа ветерана. Стоило ли воевать за таких? Заговорил с укором:
— Стыдитесь, ребята! Вы же в сыновья мне годитесь…
— Мы сыновья негодные, — прервал его вожак. — И ты нас, папочка, не устраиваешь. Даже как дедушка не нужен ты нам, своих девать некуда. А серебро твое, так и быть, примем. Кончай кланяться и давай сюда браслеты. Перстни — тоже…
Старый опытный воин понял: это сражение — проиграно. Но душа не мирилась. Безо всякой надежды пригрозил:
— А глотка у меня, между прочим, еще крепкая. Крикну — стража услышит, прискачет…
Стасиоты загоготали, один присвистнул.
— Кричи, папочка, кричи погромче! Сейчас ты у нас так закричишь, что после долго-долго молчать будешь… А ты, толстый, зачем колечко в рукав упрятал? Нехорошо обманывать, грех!..
24. День русалок
Прошел по Днепру лед, крошась друг о дружку да о камни у порогов, растопляясь в воде под лучами Дажбога, к которому вновь возвращалась его прежняя щедрость. Ни одна льдинка, миновавшая Горы, так и не доплыла, надо полагать, до соленых вод Понта Евксинского.
Обильные вешние воды покидали левобережные плавни, испаряясь туманами к небу, стекая в Днепр, впитываясь в пески, в земную глубь и тут же выбиваясь оттуда ожившими вербами. И повсюду на кустах вербы серебрились пушистые комочки, будто невиданно малые бесхвостые мышата росли прямо из тонких ветвей среди проклюнувшейся бледно-зеленой листвы.
Наступил Семик, или День русалок, — весенний праздник полян и всех антов. Потому строительство города на новой Киевой горе было приостановлено.
Этим летом поляне никуда в поход не собирались. В полуденных степях хозяйничали обры, отрезая привычный путь к Понту. Кий твердо решил никуда и ни на кого не ходить, пока не поставит город на Горах. Даже в полюдье сам не ходил, послал одного только Хорива с молодшей дружиной, остальных же держал при себе на Горах. Мало ли что…
Уже был выкопан ров, отделявший полуденную часть горы, где нетронутыми остались могилы. Он тянулся от яра и до яра, глубиной в два-три человеческих роста, с укрепленными дерном чуть наклоненными краями — чтобы не обваливались и не оползали после дождей. Вдоль рва навалили камней, насыпали земли, получился вал. Только на валу принялись ставить не частокол, как прежде, а два ряда стен бревенчатых, плотно набивая меж ними песок с камнями.
Всю зиму, в стужу и мороз, в метель даже, из строевого леса, сплавленного сюда еще минувшим летом, возводили башни и стены, терема и конюшни. От зари до зари стучали секиры по дереву и молоты по железу. Сбивали наледь с неохватных бревен, тесали с обоих концов — для замка. Дружно накатывали — раз, два — взяли! — и подгоняли, чтобы бревно к бревну.
— Е-ще взя!..
Неслухи-бревна вырывались из заледеневших нескладных рукавиц, катились обратно, на плечи, на головы. Раззяв калечило. Снова брались, цепляя замороженное дерево баграми и секирами.