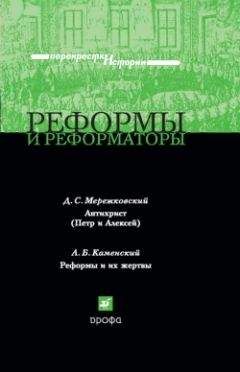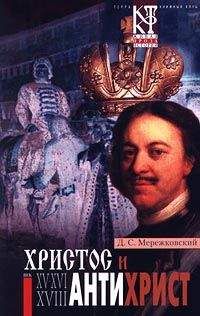Богиня, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служили ей невольно и в самом кощунстве. Шутовской треножник превратился в истинный жертвенник, где в подвижном и тонком, как жало змеи, голубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога. И озаренная этим пламенем, богиня улыбалась мудрою улыбкою.
Начался пир. На верхнем конце стола, под навесом из хмеля и брусничника с кочек родимых болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом на бочке, из которой князь-папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вирши, тоже собственного сочинения – перевод Анакреоновой песенки:
Бахус, Зевсово дитя,
Мыслей гонитель Лией!
Когда в голову мою
Войдет, винодавец, он
Заставит меня плясать;
И нечто приятное
Бываю, когда напьюсь;
Бью в ладоши и пою,
И тешусь Венерою,
И непрестанно пляшу.
– Из оных виршей должно признать, – заметил Петр, – что сей Анакреон изрядный был пьяница и прохладного жития человек.
После обычных заздравных чаш за процветание российского флота, за государя и государыню поднялся архимандрит Феодосий Яновский с торжественным видом и стаканом в руках.
Несмотря на выражение польского гонора в лице – он был родом из мелкой польской шляхты, – несмотря на голубую орденскую ленту и алмазную панагию с государевой персоною на одной стороне, с распятием на другой – на первой было больше алмазов, и они были крупнее, чем на второй, – несмотря на все это, Феодосий, по выражению Аврамова, особенно был видом аки изумор, то есть заморыш или недоносок. Маленький, худенький, востренький, в высочайшем клобуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развевающимися черными воскрыльями, напоминал он огромную летучую мышь. Но когда шутил, и в особенности когда кощунствовал, что постоянно с ним случалось «на подпитках», хитренькие глазки искрились таким язвительным умом, такою дерзкою веселостью, что жалобная мордочка летучей мыши или недоноска становилась почти привлекательной.
– Не ласкательное слово сие, – обратился Феодосий к царю, – но суще из самого сердца говорю: через вашего царского величества дела мы из тьмы неведения на феатр славы, из небытия в бытие произведены и уже в общество политичных народов присовокуплены. Ты во всем обновил, государь, или паче вновь родил своих подданных. Что была Россия прежде и что есть ныне? Посмотрим ли на здания? На место хижин грубых явились палаты светлые, на место хвороста сухого – вертограды цветущие. Посмотрим ли на градские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фигур на хартиях прежде не видывали...
Долго еще говорил он о книгах судейских, свободных учениях, искусствах, о флоте – «оруженосных сих ковчегах», – об исправлении и обновлении Церкви.
– А ты, – воскликнул он в заключение, в риторском жаре взмахнув широкими рукавами рясы, как черными крыльями, и сделавшись еще более похожим на летучую мышь, – а ты, новый, новоцарствующий град Петров, не высокая ли слава еси фундатора[4] твоего? Там, где и помысла никому не было о жительстве человеческом, вскоре устроилося место, достойное престола царского. Urbs ubi silva fuit. – Град, идеже был лес. И кто расположение града сего не похвалит? Не только всю Россию красотою превосходит место, но и в иных европейских странах подобное обрестись не может! На веселом месте создан есть! Воистину, ваше величество, сочинил ты из России самую метаморфозие, или претворение!
Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно. Когда тот говорил о «веселом расположении» Петербурга, глаза его встретились на одно мгновение, как будто нечаянно, с глазами царевича, которому вдруг показалось или только почудилось, что в глубине этих глаз промелькнула какая-то насмешливая искорка. И вспомнилось ему, как часто при нем, конечно в отсутствие батюшки, ругая это веселое место, Федоска называл его чертовым болотом и чертовой сторонушкой. Впрочем, давно уже царевичу казалось, что Федоска смеется над батюшкой почти явно, в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никто не замечает, кроме него, Алексея, с которым каждый раз в подобных случаях менялся Федоска быстрым, лукавым, как будто сообщническим взглядом.
Петр, как всегда на церемониальные речи, ответил кратко:
– Зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, что Господь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем, который Бог нам пред очами кладет.
И, вступив опять в обычный разговор, изложил по-голландски, чтобы иностранцы также могли понять, мысль, которую слышал недавно от философа Лейбница и которая ему очень понравилась – «о коловращении наук»: все науки и художества родились на Востоке и в Греции; оттуда перешли в Италию, потом во Францию, Германию и, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и наша череда. Через нас вернутся они снова в Грецию и на Восток, на первоначальную родину, совершив в своем течении полный круг.
– Сия Венус, – заключил Петр уже по-русски, с особою, свойственной ему простодушною витиеватостью указывая на статую, – сия Венус пришла к нам оттоле, из Греции. Уже Марсовым плугом все у нас испахано и насеяно. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем, Господи, помози! Да не укоснеет сей плод наш, яко фиников, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия, домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени Российского.
– Виват! Виват! Виват Петр Великий, отец отечества, император всероссийский! – закричали все, подымая стаканы с венгерским.
Императорский титул, еще не объявленный ни в Европе, ни даже в России, здесь, в кругу птенцов Петровых, уже был принят.
В левом дамском крыле галереи раздвинули столы и начали танцы. Военные трубы, гобои, литавры семеновцев и преображенцев, доносясь из-за деревьев Летнего сада, смягченные далью, а может быть, и очарованием богини, здесь, у ее подножия, звучали, как нежные флейты и виольдамуры в царстве Купидо, где пасутся овечки на мягких лугах и пастушки´ развязывают пояс пастушкам. Петр Андреич Толстой, который шел в менуэте с княгинею Черкасскою, напевал ей на ухо своим бархатным голосом под звуки музыки:
Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвленны
Любовною стрелою
Твоею золотою,
Любви все покоренны.
И, жеманно приседая перед кавалерами, как того требовал чин менуэта, хорошенькая княгиня отвечала томной улыбкой пастушки Хлои семидесятилетнему юноше Дафнису.
А в темных аллеях, беседках, во всех укромных уголках Летнего сада слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Богиня Венус уже царила в гиперборейской Скифии.
Как настоящие скифы и варвары рассуждали о любовных проказах своих кумушек, фрейлин, придворных мамзелей или даже попросту «девок» государевы денщики и камер-пажи в дубовой рощице у Летнего дворца, сидя вдали от всех, особою кучкою, так что их никто не слышал.
В присутствии женщин они были скромны и застенчивы, но между собою говорили о «бабах» и «девках» со звериным бесстыдством.
– Девка-то Гаментова с Хозяином ночь переспала, – равнодушно объявил один.
Гаментова была Марья Вилимовна Гамильтон, фрейлина государыни.
– Хозяин – галант[5], не может без метресок[6] жить, – заметил другой.
– Ей не с первым, – возразил камер-паж, мальчонка лет пятнадцати, с важностью сплевывая и снова затягиваясь трубкою, от которой его тошнило. – Еще до Хозяина-то с Васюхой Машка брюхо сделала.
– И куда только они ребят девают? – удивился первый.
– А муж не знает, где жена гуляет! – ухмыльнулся мальчонка. – Я, братцы, давеча сам из-за кустов видел, как Вилька Монсов с Хозяйкой амурился...
Вилим Монс был камер-юнкер государыни – «немец подлой породы», но очень ловкий и красивый.
И, подсев ближе друг к другу, шепотом на ухо принялись они сообщать еще более любопытные слухи о том, что недавно тут же, в царском огороде, при чистке засоренных труб одного из фонтанов найдено мертвое тело младенца, обернутое в дворцовую салфетку.
В Летнем саду был неизбежный по плану для всех французских садов так называемый грот: небольшое четырехугольное здание на берегу речки Фонтанной, снаружи довольно нелепое, напоминавшее голландскую кирху, а внутри действительно похожее на подводную пещеру, убранное большими раковинами, перламутром, кораллами, ноздреватыми камнями, со множеством фонтанов и водяных струек, бивших в мраморные чаши, с тем чрезмерным для петербургской сырости обилием воды, которое любил Петр.