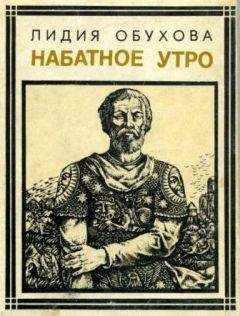Ладожский посадник сказал, что шведские послы пересели здесь на морскую лодью и прошли дальше без опаски и оглядки назад.
Даже при малом ветре было слышно громкое плескание. Озерная волна разбежисто теснила Волхов, водяным эхом отражалась от каменных его берегов. Когда же на исходе дня они закачались на крутой невской волне, пришел наказ — огней в темноте не зажигать: по воде свет брезжит далеко, они же крались потаенно.
Поступки Александра Ярославича могли казаться плодом хитроумнейшего расчета, колдовской точностью прицела. Он натягивал лук каждый раз чуточку по-иному, руки и тетива словно понимали друг друга.
Мир двадцатилетнего князя был достаточно прост и четок. Он понимал свой долг как неустанную заботу об обороне русской земли: державные тяготы возложены на него по праву рождения.
Стремясь быстрее дотянуться мечом до шведов, он еще не знал, как добудет победу, но жаждал ее всеми силами души и готов был зорко не пропустить ни единой возможности ринуться на врага хоть с поднебесья! «Недаром родовой знак у нас, Рюриковичей, сокол», — думал он не без тщеславия...
Всю ночь, пока ущербный месяц снулой рыбой выглядывал из небесной полыньи, и до сероватого утреннего света Александр Ярославич проспал, баюкаясь на уступчивых волнах так же сладко, как юный Онфим.
Когда разбрезжило, стало видно, что озеро Нево стремительно рвалось через Невскую протоку в открытое море. Здесь и был новгородский угол, конец русской земли.
У Орехова острова их встретил рыбацкий челн с Пелгусием. Пока лодьи поспешно уходили по быстрому течению в боковую речку Тосну, чтобы надежно укрыться в ее излучинах, Александр Ярославич вошел вслед за начальником побережной стражи в островную хижину, где вместо двери висели сбитые жерди, а крыша была устлана корьем. Да и в самом Пелгусии, переряженном в сермягу, легко ли узнать важного Ижорянского старшину?
— Живи здрав, княже!
— И ты будь здрав, Филипп.
Александр Ярославич ждал от него немедленного рассказа про шведов, но Пелгусий, благостно уставясь выше его головы на прокопченный угол балагана, поведал полушепотом диво дивное. Допрежь свеев узрел будто бы он плывущую сквозь туман лодку не лодку, колоду не колоду, а только стояли в ней два мужа, лицом и одеянием светлы. И разговор над водой разнесся. «Поможем, брат Глеб, сродственнику нашему князю Александру, — сказал один. — Вороги на него идут». — «Поможем, брат Борис», — отозвался другой, взмахивая веслецом. И вдруг не стало угодников. А весла заплескали уже многие, шведские.
— Друг Филипп, — сказал Александр Ярославич, старательно обмахнувшись крестным знамением. — Благодарствую за рассказ. Только нет нужды крепить во мне мужество. Я Ижорян в беде и так не покину. Давай лучше поговорим о деле. Видение больше никому не рассказывай. Владыке Спиридону сам передам при случае.
Пелгусии едва приметно вздохнул с облегчением.
— Не лгали люди, что ты мудр, — сказал он. — Знай, что и тебя Ижора не выдаст. Как отцов наших к Новгороду прилелеяло, так и нам другого пути нет. А теперь слушай...
Шведский стан располагался на месте приподнятом и свободном от деревьев. Кустарник, заросли ивы и другую береговую растительность вырубили сразу и начисто. В центре установлен большой Биргеров шатер — место встречи предводителей, походный зал Совета и пиров. Сверху шатер обтянут полотнищами, такими плотными, что кинжал распорет их не сразу, но столбцы Пелгусий слегка подсек изнутри. Шатер заметен: на боках нашиты геральдические знаки короля Эриха и самого Биргера. По обе стороны от него располагались шатры Ульфа Фаси, латинского бискупа, других знатных рыцарей. Палатки простых воинов оттеснились к краям лагеря. С наступлением темноты ночная стража разжигала огонь. Костры же, на которых дважды в день варилось и пеклось походное яство, были ближе к пологому речному склону, для удобства кашеваров и водоносов. Шведы из лагеря отлучались недалеко и редко, разве что переправлялись через Невскую протоку, где на ближних болотах били стрелами крякв, шилохвостов, чирков и куликов. Но в лесную дебрь, подошедшую плотной стеной к лагерю, углублялись неохотно, опасаясь змей и рысей.
— Отсюда и пойдем, — тотчас сказал князь, сам подбираясь как хищный пардус.
Рать шла по лесу и сама себе торила дорогу. Двигались гуськом, ведя коней под уздцы. Конница не отставала, но и не обгоняла плывущих в лодьях по реке пешцев.
Лес был густой, ели перемеживались чистыми березнячками, будто хозяйка развесила льняные полотна. Дни стояли погожими, бездождевыми, под ногами хрустел сухой мох и лукавыми черно-синими зрачками выглядывали из черничника поспевающие ягоды.
Онфима так и тянуло нагнуться, пообщипать кустик, бросить горсть в рот. Дома он слыл сластеной: всякий день перепадало от матушки лакомство. То, что теперь, удерживаясь, проходил мимо, по-мужски безразлично топча сапогом прельстительные ягоды, приподнимало его в собственном мнении.
— Глянь-ко, — сказал ему приметливый Грикша, — сосна здесь болотная. Для срубов не пойдет. Дерев много, а места бедные!
Верст за шесть от устья Тосны, у крутой излучины Ижорянские лодки пристали к берегу. Меж могучих сосен протекал ручей, промыв лощину, достаточную для нетесного движения и конных и пеших. Почва здесь была твердая, известковая; копыта оставляли белые следы. Чем ближе к устьям Ижоры и Ижорянки, тем чаще по оврагам и на ветвях попадались сторожевые. Чуть не вплотную к шведам уже который день они передавали друг другу птичьими голосами малейшую тревогу.
Рать Александра Ярославича подбиралась к шведам невидимо, неслышимо, готовясь ударить в час, подсказанный Ижорянскими соглядатаями. Лошади с копытами, обмотанными пучками трав, двигались как призраки.
Пелгусий и князь шли за передовыми, чутко замечая изменение тропы. Ее торили по правому берегу, опасаясь оступиться в заросшую осокой торфяную воду.
Последний порубежный разведчик вполголоса, а больше знаком, дал понять Пелгусию, что у шведов все спокойно. Он внезапно выглянул как леший из неглубокого овражка, сплошь в орешнике и ольхе. Поярковый колпак был тоже обмотан ореховой ветвью. Рука Онфима сама потянулась перекреститься — так диковин казался ему облик лесовика...
А вот как Онфим очутился далеко впереди витебского ополчения, чуть не рядышком с князем, он и сам не возьмет в толк. Увлекло ненасытное любопытство, ноги, которым все бы бегать без устали да скакать через кочки. Он с самого начала держался поближе к Якову-полочанину. Тому, должно быть, отец шепнул что-то на прощанье: ловчий не гнал от себя шустрого парня.
Так и получилось, что, когда Александр Ярославич опередив всех, вышел к овражку, отделявшему лесную глухомань от шведского стана, рядом с его ближними, бок о бок со стремянным Ратмиром был и Онфим.
Еще на привале, откуда ни ржанье, ни голоса не могли выдать новгородцев, был подгадан для удара ленивый послеобеденный час. Хоронясь в путанице обильно смоченных росою кустов, русская рать терпеливо наблюдала суету шведского лагеря. Кашевары черпали кожаными бадейками Ижорскую воду для котлов; по пологому берегу стремянные вели на водопой мохноногих грудастых коней под богатыми чепраками.
Онфим нащупал в холщовой суме, притороченной к поясу, маменькин сухарик, неслышно погрыз жадными зубами. «Вон они, свей. Чего ждем?» — томясь, думал он.
И тотчас по кустам прошелестело:
— Голов не высовывать, веток не шевелить. Оборони бог обломить сучок или подать голос! Князем велено: кто приметлив, тому запоминать ходы между шатрами к Биргерову стягу.
Не сетуя больше на задержку, Онфим со старательностью вглядывался в шведский стан. Ни одежда свеев, ни их полосатые шатры не были в диковинку купеческому сыну. Да и обилье парусов видывал он на Двине, когда те толпились у витебского вымола. Правда, мирные торговые ветрила не имели столь зловещей окраски, черной и коричнево-багровой. Их высокие выгнутые носы несли на себе тела морских дев или фигуры святых, а не медные звериные головы, не злых крылатых змеев. Однако к устрашению Онфимов глаз скоро притерпелся, и все закоулки между шатрами стали казаться ему знакомыми, словно он исходил их ногами...
Шведский лагерь утихал. Пища была сварена, костры сами собою погасали в головешках. Послеобеденное солнце клонило свеев ко сну. Шел шестой дневной час, считая от восхода, и двенадцатый — от полуночи. Воскресенье, день поминовения Кирика и Иулиты.
На реке, хоть кормщики и держали паруса натянутыми, ожидая попутных порывов, стояло безветрие, великая летняя тишь. Шнеки с полуобвисшими полотнищами отражались в воде, как в гладком льду, неподвижно и сонно. Лишь вокруг Александра Ярославича все плотнее сбивался невидимый ком душевного напряжения. Приучив себя с самых ранних лет к узде и осмотрительности, сейчас, подав наконец долгожданный знак приступа и едва не на крыльях перелетев вместе с конем воздушное пространство между русской засадой и шведским станом, он разом забыл осторожность, отринул ее. Сердце словно растопилось в груди, в каждую жилку проник горячий ток, и он стал тем, кем был рожден: орлом из Всеволодова гнезда, сыном неукротимого отца, братом удалых Ярославичей!