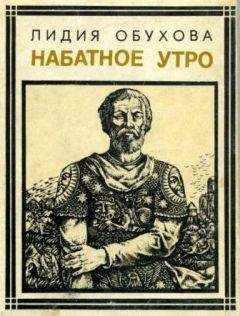Ратмир, умирая от ран, спросил:
— Княже! Мы победили?
— Победили, — проговорил Александр Ярославич, глядя на него с жалостью.
— Тогда ладно, — прошептал Ратмир, смежая веки.
Воздух вновь наполнился сиреневым дрожаньем, но уже рассветным. Над пустым морем занялась заря.
Раненых мучила жажда; их поили из роговых и кожаных кубков, которые повсюду валялись возле шатров.
Добыча оказалась знатная! Даже из шатра Биргера не успели перенести на головную дракку мешок с парадным платьем ярла, и теперь новгородцы рассматривали вызолоченные доспехи с тонким рисунком на них, грозный пернатый шлем и сапоги, где в каждую шпору было вставлено по алмазу. А шатер королевича Вальдемара и вовсе оказался целехонек. Витьбичи, ворвавшись в него первыми — среди них Грикша с Ретешкой и Лихачом-кожемякой, — много дивовались, разглядывая игрушечный кинжальчик в серебряных ножнах и цветные барабаны, которыми забавлялся малолетка-наследник.
Грикша разыскал Онфима. Тот потерянно сидел возле свежего могильного холмика... Грикша потряс младшего брата за плечо.
— Очнись, малик. Надобно просить Якова-полочанина, чтобы замолвил перед князем словцо: нас-де, витебских, отпустить по домам без захода в Новгород. У меня три свейских добрых коня припасены, сумы переметные набиты. Вчетвером да при оружии мы ближним лесным путем невредимо доберемся!
Голос Грикши звучал домовито, словно не было перед тем ни кровавой сечи, ни ратного изнеможения.
— Чего печаловаться? — резонно сказал он. — Всего-то у князя два десятка урону, а свеев вона: три корабля мертвецов в море вытолкали! Напрасно поленились в землю зарыть; шнеки хорошие... А это что при тебе за чудушко? — недоуменно спросил он брата.
Со вчерашнего дня за Онфимом, как пришитый, ходил плененный им шведенок. Держался за своего победителя, как за спасителя, боясь отстать.
Странное это содружество началось в горячке битвы, когда Онфим боковым ударом снизу вверх не рассек ему голову, не перебил шею, а только сбил шлем. Обнажилась голова со слипшимися от пота длинными тонкими очень светлыми волосами. Перед Онфимом стоял враг не поверженный, а беззащитный — и это все изменило вдруг. Оба несколько секунд стояли неподвижно, в изумлении уставившись друг на друга. Шведенок первым уронил меч. Онфим опустил свой.
Потом у котла с походной кашей Онфим начерпал и ему. Русский воин отходчив; над молоденьким пленником трунили, Онфим громче других, хотя в явную обиду его не давал. Вместе со шведенком разыскали под рухнувшим шатром исколотого Ратмира, бережно отнесли, как тот велел, пред княжеские очи.
Теперь приняв последний вздох боевого друга, Онфим отирал слезы. Шведенок стоял за спиной пригорюнившись.
— Возьмем свея с собою, коль он твоя добыча. Какой-никакой выкуп можно потребовать, — решил хозяйственный Грикша.
Но Онфим лишь махнул рукой.
— Какой с него выкуп! Пустить бы домой.
— По морю идти не по суху. Пропадет вражонок. А у нас в дому ему хоть стыдно, да сытно.
Мысли Онфима были уже заняты другим: ратная жизнь пришлась ему по душе. Разыскав Якова-полочанина, он стал горячо просить: пусть-де князь возьмет его на место Ратмира. А уж он, Онфим, не выдаст, не струсит, не отступится.
— Вишь ты, куда взлететь занамерил! — удивился ловчий.
Однако взялся передать просьбу. Александр Ярославич выслушал без недоумения.
— Поруку за него даешь? — спросил.
— Отец его крепок в замыслах, и сын, видать, по нему, — задумчиво отозвался тот. — Мыслю, что Онфим, если не шибко умен, то на рати отменно храбр. Не отсылай его, княже!
Так в одночасье переменилась вся Онфимова судьба. Отныне он не отлучался от Александра Ярославича уже ни на шаг.
Он первым заметил, как Ижорку споро переплывает лодка-однодеревка, подобная ивовому листку. На ней, припав с веслом на колено — ну, не диво ли? — длинноволосая девка. Расплетающуюся косу из-под берестяного обруча отмывал в сторону ветерок; крашеная холщовая запона рдела цветком шиповника.
— Дочерь моя, — сказал Пелгусий, следя с родительской гордостью, как ловко взлетает весло, откидывая волну.
Вытащив лодчонку на песок и увидев отца в окружении ратных молодцов — кольчуги и шлемы их солнечно блестели, — дева застыдилась, заслонила ладонью лицо. Отец поманил ее на береговую вершинку, пошептался в стороне и вернулся, посмеиваясь. Несколько свеев, не то переплыв от страха Ижорку во время битвы, не то свалясь с палубы при ночном бегстве, были взяты в полон бабами-Ижорянками и ныне ждут решения своей участи.
— Знаешь ли, княже, кто они? — вопросил Пелгусий. — Да послы Биргеровы, которые кичились перед тобою. Видно, вдругорядь не минуют Новгорода. Стоять им на коленях у святой Софии, ожидая твоей милости!
Старшина пришел звать князя на пир, зная, что не останется внакладе: князь прикажет щедро отдарить Ижорян из захваченной добычи. В озабоченности он даже не выговорил дочери, что ослушалась его приказа, вернулась самовольем из лесу. Велел лишь поспешить обратно в ту тайную глухомань, звать брата и всех других.
— А чтобы пригожей девице одной не плутать, дам ей провожатого, — сказал неожиданно князь, покосившись на Онфима. — Ступай, богоданный стремянной, к моим верным Ижорянам. Полно им хорониться да печалиться. Скажи, что берегом отныне владеем безраздельно. Проводи его, красава.
Зардевшаяся девушка повернулась, чтобы убежать, ее коса, взлетев от стремительности, хлопнула по спине. Онфим ощутил в груди неожиданный рывок. Ничего он про нее не знал, даже имени, а она, уходя, будто бы вырывалась из него самого, оттуда, где билось сердце...
— Ах, погоди! — вскричал Онфим, кидаясь вслед.
Лес был близок, и сухой мох уже попискивал под ее быстрыми лапотками так-то нежно и весело, словно пели неведомые пичуги. Онфим шел, прислушиваясь к пенью несущихся впереди него птах. Над головой сквозь живую сеть листьев он видел клочки искрящегося пространства, почти фиолетового в своей беспредельности.
Дева обернулась и глянула на него исподлобья иссиня-черными таусиновыми глазами.
— Встань под ту рогатую сосну, — сказала она, смешно выговаривая русские слова. — Брось в дупло дар, и все станется по твоему желанию.
— А ты со мною рядом встанешь?
— Хочешь, встану и я.
Онфим провел ладонью по распашной епанче, не жалеючи, сорвал бронзовую желобчатую пуговицу, закинул ее в невысокое дупло.
— Она бог у вас, эта сосна? — спросил без насмешки. — Добрый бог?
— У богов жалости нет, — рассудительно ответила Олка. — Есть договор: мы их чтим, они нам помогают.
Онфим нашел это вполне справедливым.
Она вела его звериными тропами, сначала едва касаясь Онфимова рукава, потом вложив ладошку в его руку. Рассказывала, что они, народ ингери, живут здесь искони. Что умерших своих не зарывают, но кладут по холмам, чтобы те в лес уходили. Потому все деревья и камни в лесу — их предки. Что арбуи-шаманы ворожат и имена дают. Девицы же сами выбирают себе дружка, милуются с ним по полгода; коль полюбят, то вступают в супружество.
— А я тебе люб? — спросил Онфим. — Пойдешь за меня?
— Да я не крещена, — сказала, потупясь, Олка.
— То не беда! Попы окрестят. Возьми-кось подарочек.
Он протянул дочери Пелгусия затейливый гребень с резьбой, изделье изборских косторезов. Берег для матушки, чтоб отправить домой с Грикшей, да не удержался. Затягивал его, как водяной омут, прозрачный взор Ижорянки. И крест-нательник снял бы для нее!
— Ай не жаль? — усмехнулась она.
— Для тебя-то? — жарко выдохнул Онфим. — Тебя ради головушки буйной не пожалею. Полюбишь?
— Ижорянский обычай девок не неволит. Захочу, полюблю.
— А ты захоти, милуша. Поход кончится, отпрошусь у князя. Отцу-матери вено, как водится, поднесу. Тебе перстенек серебряный бирюзов-камень...
— Ладно. Сам-то ворочайся!
Вновь взмахнула косой, убыстряя шаг.
Пуща расступилась, открыв поляну с Ижорянскими шалашами. Скотина глухо позвякивала крупными, по кулаку, бубенцами...
— Славная дочь у Филиппа, — сказал Александр Ярославич, укладываясь после пиршества на покой по-походному. Онфим настлал ему сена, покрыл попоной. — Как светляк по двору мелькает...
Новый стремянной зарделся.
— А как звать? — понимающе спросил князь.
— Кличут Олкой. Ольга.
— Доброе имя. От Олега Вещего пошло. Во времена оны по пути к Киеву приметил он в Плескове юницу, нарек суженой сыновцу своему Игорю. Пока росла, ее и называли по нему: мол, дева того самого Ольга-князя, им отмеченная.
— Дивно! — приоткрыв рот, восхитился Онфим, смекая про себя, что, может, и неспроста повел его господин окольную речь о сватовстве.
Он уже забывался в счастливых мечтах, когда князь снова его окликнул, разбудив.