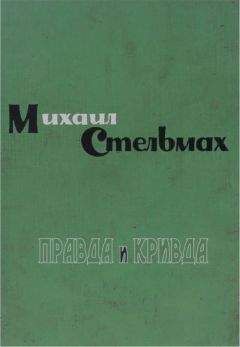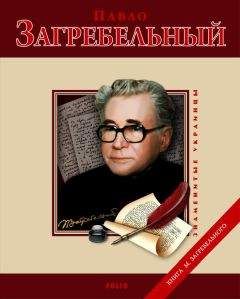Он услышал мои шаги, не поворачиваясь ко мне, сказал, обращаясь к иконе:
- Вот пресвятая дева, покровительница каждого, кто один как перст.
Я стоял молча.
- Хочу быть с народом своим, а все один как перст, - пожаловался пан комиссар королевский.
Я подумал: хочешь с народом, а сам - с панами, потому что тоже пан.
Он начал бить поклоны перед пречистой, просил:
- Смилуйся. Ниспошли мне великое одиночество, чтобы мог я молиться истово!
Я подумал: тогда зачем же позвал меня?
Он забыл обо мне, обращался только к деве святой:
- Верни мою чистоту, прозрение таинств, все, чему я изменял и что терял.
Я подумал: зачем же изменял? Кто не изменяет, тот не теряет.
Он еще не закончил своих просьб.
- Смилуйся. Жизнь мою нечем оправдать. Дай мне силы. Ниспошли мне страдания.
Я подумал: сколько же страдать этой земле? Еще не осели могилы под Кумейками, а уже сколько проросло могил свежих над Днепром и Сулою и кровью омываются дороги вслед за Потоцким. Ты же, пане Кисель, страдаешь лишь из-за того, что не можешь обдирать своих взбунтовавшихся подданных.
Он словно бы услышал мои мысли. Оставил божью матерь, сказал мне:
- Бог дал счастливое окончание неприятным антеценденциям - тому, что было. Теперь силу должен сменить здравый смысл. Я хочу сберечь пана писаря.
- Тяжелые у панов перины, - ответил я.
- Nostri nosmet poenitet - сами себя наказываем, как сказал еще Теренций. Но я ведь тоже в этой вере родился и в ней свой век закончу.
- Общая вера еще не дает общей судьбы, пане Кисель.
- Ну, так. Что общего может быть между гультяйством и людьми степенными? Удивляюсь, как этот разгул увлек за собой и пана писаря. Неизмеримо страдаю, видя пана писаря среди тех, которые nihil sacrum ducunt[7] - которые и веру, и жен, и вольности в Днепре утопили. Забыли слова спасителя: "Всякая кровь, проливаемая на земле, взыщется от рода сего".
- Слова эти можно истолковать и наоборот, - заметил я. - Может, это именно против панства, которое ело людей, как у псалмопевца: ядят люди моя в снедь хлеба.
Кисель поднялся с колен, стряхнул пыль, встал возле меня, положил мне руку на плечо.
- Пане Хмельницкий! Разве мы с тобой не знаем своего народа? Три вещи вижу я в этом народе неразумном. Первое - его любовь к духовным греческой веры и богослужению, хотя сами они больше похожи на татар, чем на христиан. Второе - что у них всегда больше страха, чем ласки. Третье - это уже общая вещь: любят голубчики взять, если им что-то от кого-то может достаться.
- Почему-то казалось мне, пане Кисель, - заметил я на эту речь, - что грабителем все же следует считать не того, кто сидит на своей земле, а того, кто врывается туда силой. Грех еще и словом насмехаться над этими несчастными, убогими сиротами, жертвами панскими.
Он не услышал моих слов.
- Должны позаботиться о возвращении ласки королевской, так неразумно и преступно утраченной. Рискуете последним теперь, ибо если еще раз придется Речи Посполитой вынуть на вас саблю, то может получиться так, что и само имя казацкое исчезнет: лучше видеть здесь запустение и зверей диких, чем бунтующий плебс. Взбудоражить своеволие можете, но до конца довести никогда! Бежать на Запорожье в лозы и камыши можете, но жен и детей оставите и, будучи не в состоянии выдержать там долго, принесете свои головы назад под саблю Речи Посполитой. А сабля эта длинная, и не заслонят от нее заросшие дороги. Теперь хочу взять пана писаря, чтобы сообща составить и написать субмиссию!
Я догадывался, какая это должна быть субмиссия, хотя и в мыслях у меня не было, что в узкой голове пана Киселя уже составляется зловещая ординация, которая осуществится еще до конца года, в морозах и снегах на Масловом Ставе, где нам придется отречься от всех вольностей своих, права избирать старшину, отдать армату и клейноды - и как же от этого зрелища будет расти у панов сердце, а казацкое сердце будет разрываться, когда хоругви, булавы и бунчуки будут складываться к ногам королевских комиссаров, главным из которых, разумеется, пан Адам Кисель.
- Помолимся вместе, пане Хмельницкий, - попросил Кисель.
- Молился, сюда едучи, да и перед тем молился со всем своим товариществом.
- Слышал я, будто вы, как язычники, чаровниц по валам рассадили, чтобы они чинили колдовство на стрельбу, ветер и огонь. Так что же это за молитвы?
- Посмотрит пан каштелян на валы наши и укрепления и поймет, что ни в молитвах, ни в заклинаниях они не нуждались. Да теперь все это ни к чему. Заканчивай молитву, пане Кисель, не стану мешать.
Снова оказался я под дождем среди тихой травы, что заполнила весь окружающий мир, и сразу же подошел ко мне старый служебник Киселя.
- Так я про Переяслав, пане Хмельницкий.
Я склонил голову, показывая, что слушаю.
- Имел я там родича дорогого. Здуневский, шляхтич обедневший, считай убогий, но души редкостной и отваги необыкновенной. Бедные всегда отважны, им нечего терять, богатым же отвага не нужна, ибо что им ею добывать? Под Кумейками, когда Потоцкий гнал своих конников на павлюковские закопы, погиб мой родич, и теперь осталась его несчастная жена с малой дочерью - а помощи ниоткуда.
- А пан?
- Что я могу? Я безотлучно при пане каштеляне, а добра у меня - только то, что на мне. Ничего не получил на службе у милостивого. Про пани Раину вспоминать страшно.
- Чудно мне слышать, как победитель просит побежденного.
- Э, пан писарь! Кто здесь кто - разве разберешь? Каждый сам по себе и сам для себя. Я же, зная твое доброе сердце, намерился попросить.
Сколько вдов казацких, а я должен был заботиться о вдове шляхетской? Сколько слез собственных, а я должен был вытирать слезы чужие? Но, наверное, знал служебник Киселя мою натуру лучше меня самого, когда заронил мне в душу обеспокоенность судьбой беспомощной женщины с малым дитем, так несчастно покинутой в одиночестве на земле нашей.
Собственно, время было не для загадываний и не для напоминаний. Если для панства после укрощения и угнетения казачества летом и зимой 1638 года наступило золотое спокойствие и сладкий отдых, который должен был длиться целое десятилетие, то для нас начиналось время позора и унижения.
Через год после Боровицкой субмиссии, в начале сентября года 1639, для большего уважения и украшения своих викторий, Потоцкий определил в Киеве раду казацкую, где разрешил избрать депутацию к королю (вместе с Романом Половцем, Иваном Боярином и Иваном Волченком вошел в эту депутацию и я), которая должна была стать не актом произвола, а только актом лояльности, субмиссии, и ждать не отмены ординации 1638 года и не старинных вольностей, а просить лишь сохранения земель и владений казацких. На этой раде гетман Потоцкий, распуская свое пузо под золотым кунтушом, разглагольствовал, кого смеем брать в казаки, держал он теперь нас в собственных ладонях, будто птенцов теплых и беспомощных: "Казаками могут быть только люди, которые ближе к Днепру. Потому что как в нашем шляхетском стане до вольностей и прерогатив шляхетских доходит только тот, кто их кровью своей обагрит и имуществом своим служит долго королю и отчизне. Так и вы подумайте, справедливое и соответствующее ли дело, чтобы вы пропускали каких-нибудь пастухов в стан свой и к вольностям рыцарским, которые предки ваши и вы сами жизнью своей добывали?"
Ясновельможному пастухи были не по душе, а у меня с пастухов все и началось.
По дороге в Киев свернул я по обыкновению в Переяслав на ночлег. Солнце уже садилось за горы, по ту сторону реки, потому я подгонял коня, чтобы перескочить мост через Трубеж и быть в городе еще засветло. Два моих джуры с трудом успевали за мною, наверное удивляясь, куда так торопится пан сотник (был я уже не войсковым писарем, а лишь чигиринским сотником после позорной прошлогодней ординации), а я и сам не мог бы сказать, какая неведомая сила меня подгоняет, хотя и чувствовал эту силу очень.
От соборной площади свернул я в узкую тихую улочку, тянувшуюся за переяславским базаром, но тут вынужден был осадить коня: улочка была запружена стадом, возвращавшимся с пастбища. Коровы брели медленно, сытые, крутобокие, вымя у каждой набрякло от молока, так, что даже распирало задние ноги, золотая пыль вставала за стадом, ложилась на деревья, на густой спорыш, на розовые мальвы, выглядывавшие из-за плетней, тянулась широкими полосами в открытые ворота тех дворов, куда сворачивала то одна, то другая корова, отделяясь от стада. Медлительные пастухи, с пустыми (весь припас съеден за день) полотняными торбами за спиной, шли позади стада, разгребая босыми ногами широкие борозды в золотистой пыли, а их маленькие подпаски юрко носились между коров и закручивали хвосты то одной, то другой, чтоб знала, в какой двор сворачивать, хотя коровы знали и сами. Чуть не вприпрыжку кидаясь к своим хозяйкам, которые ждали их с подойниками в руках, готовые вызволить своих манек и лысок от сладкого бремени молочного.