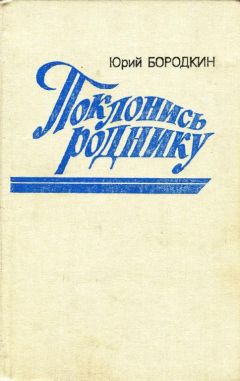Подхватив на руки младшенького, купчиха заторопилась к городским воротам, за ней потянулись и остальные пятеро: мал мала меньше, ничего не понимающие, перепуганные вусмерть.
– Эко батюшка как круто обошелся с рязанцами, – не выдержал Юрий. – Одних они с нами кровей, одной веры. Что скажешь на это, Константин? – склонился к седлу брата Юрий. – Не половцы же там какие-нибудь – свои.
– Князь на то великим прозывается, что ум ему великий даден, и потому дела нам его неведомы. Не терзайся понапрасну, батюшка знает, что делает, – откликнулся Константин и, привлеченный шумом, доносившимся из-за высокого тына, предложил: – Точно побоище какое, поглядим?
Всадники въехали в распахнутые ворота. На просторном дворе черноволосый, ладно скроенный, высокий мужик увесистой дубиной отбивался от наседавших на него четверых дружинников. Двое, с распластанными головами, в крови, лежали у его ног. Да и сам он, истекающий кровью от множества ран, еле держался на ногах. Отброшенный ударом дубины, один из дружинников, растирая по лицу льющуюся из разбитого носа кровь, кричал своим товарищам:
– Петро, ты его копьем наддай! Видишь, мечом не достать. Проткни его, лешака черного!
Видно, въезжающие во двор всадники на какое-то мгновение отвлекли обороняющегося, и он не углядел, что стоявший слева и чуть позади от него дружинник, отложив меч, поднял с земли копье. Нанесенный удар был настолько сильным, что, пробив грудь чернобородого, копье вошло в столб высокого резного крыльца, а мужик, выпустив из рук свое грозное оружие, повалился замертво на землю.
– Что за побоище вы здесь учинили? – спрыгнув с лошади, властно спросил Юрий.
Один из дружинников, еще горячий от схватки и потому тяжело дышащий, хрипло, с придыхом ответил:
– Волю княжескую исполняли, а этот, – указал он мечом на поверженного мужика, – за дубину… и ну охаживать. Петра с Тюхой ухайдокал, и Первуну тож крепко досталось.
– Женка его – истая ведьма, под стать мужу своему, за нож… и на Фрола. Еле отбился, – добавил другой дружинник, кивая на здоровенного рыжеволосого мужика.
Тот, осклабясь, подтвердил:
– Пришлось сабелькой махнуть. Развалил аж до самой…
Дружинники зашлись хохотом.
– Не верь им, князь. Напраслину на моих матушку с батюшкой возводят, – раздался звонкий от возмущения голос, и из-за спин дружинников выступила черноволосая невысокая девушка лет пятнадцати. Словно угольями обожгла она Юрия своими огромными, омытыми слезами, черными глазищами. Негодуя, она выкрикнула: – Убивцы вы, нелюди! За что матушку загубили? А батюшку? Ответствуйте! Не мне, князю своему правду говорите! И что мной позабавиться хотели…
– Ах ты, волчья утроба! Кикимора болотная! – взревел рыжебородый дружинник и, выхватив саблю, замахнулся ею для удара, но Юрий в самый последний момент подставил свой меч, и удар пришелся не по девичьей голове, а вскользь, лишь на излете зацепил плечо. Девушка, ойкнув, повалилась княжичу под ноги.
Из-за спины княжича выскользнул Роман и, не дав девушке коснуться земли, подхватил ее на руки.
Спешился и Константин. Осмотрев девичье плечо, он сказал:
– Рана неглубокая, но, ежели не стянуть порез, истечет девка кровью. Неси-ко ты ее, Роман, к княжескому шатру. Найдешь там деда Пантелея. Он лекарь знатный, поможет, – и, повернувшись к дружинникам, строго спросил: – Говорите правду, не то на пытку пошлю. Почто мужика с бабой загубили?
Дружинники стояли потупясь, с ноги на ногу перетаптываясь.
– Ты, – ткнул перстом Константин в рыжеволосого.
Мужик вздрогнул и, помычав, нараспев произнес:
– Так мы же токмо волю княжескую…
– С пытки все расскажешь! – пригрозил, в свою очередь, Юрий.
– Я и так все расскажу. Эка невидаль, мужика с бабой зарубили. Сколь их ноне поляжет, не счесть. А этого, – скосил глаза рыжий на чернобородого, – ты и сам, князь, видел. Он двоих наших положил, ну как его опосля этого жить оставить. А с бабой… В походе первое дело, как град возьмем, бабам подолы задрать. А тут входим в избу… никого. Прошли в ложницу, женка в постели лежит. Может, занедужила или еще по какой иной причине, не ведаю. А сама ладная, чернявенькая, базенькая [40] . Кровушка у мужиков и взыграла. Баба-дура кричать начала, тут и мужик ее объявился. Петра-то он враз пришиб, кулаком, а Тюху апосля. Его же, Тюхиной саблей, и зарубил. Потом схватил мужиков за хребты и, как котов шкодливых, вышвырнул из избы. А его женку я посек саблей. Она-то как из-под Тюхи вывернулась да одежонку кой-какую накинула на себя, тут же за нож и на меня… Ну, я и махнул. Девку же мы не трогали. Вот те крест, – торопливо перекрестился красномордый. – Может, кто другой хотел с ней позабавиться, но мы ее не видели. Правду говорю.
– Зачем же тогда загубить ее хотел? – спросил Юрий.
Мужик замолчал, замялся и, не найдя ответа, развел руками:
– Не ведаю, по злобе, наверное.
Константин осуждающе оглядел мужиков, еще раз бросил взгляд на убитых и, перекрестясь, тихо произнес:
– Господи, упокой их души грешные, – и уже громче закончил: – А что до вас, мужики, то не мне, а великому князю решать: по злому умыслу ли иль случайно вы кровь ноне пролили.
Взмахом руки Константин показал, чтобы дружинники удалились с глаз долой. После чего заметил брату:
– А знаешь, Юрий, глядя на это, – показал он на убитых мужиков, – я все больше убеждаюсь в правоте ромейских мыслителей: дай волю человеку, и все низменное всплывает в нем.
– Да, но ромеи воспевали свободу, – возразил Юрий. – Я не так много времени провожу за книгами, как ты, но читал, что ромеи, имея рабов, больше всего ценили свободу.
– Ценили, – согласился Константин, – из-за боязни стать рабами. Дело-то в другом: ромейские законы давали свободному человеку право распоряжаться жизнью раба! А в Рязани великий князь дал это право своим дружинникам. Они решают: противится ли воле княжеской рязанец или нет, жить ему или умереть.
– Уж больно мудрено ты говоришь, брат, по-книжному. Я же одно знаю верно: токмо князь вправе живота лишить. Ему богом такая власть дадена. И хватит об этом, – решительно тряхнул кудрями Юрий, – поехали дале.
На дворе князя Романа царила деловая суета. С десяток подвод загружалось княжеским добром, ржали выводимые из конюшен лошади. Зная, что великий князь разрешил рязанцам брать с собой только то, что можно унести в руках, Юрий удивился увиденному. Наехав на двух мужиков, тащивших тяжелый, окованный железом ларь, он строго спросил:
– Чьи люди? Почто добро волочите?
Мужики, признав во всаднике княжича, с готовностью ответили:
– Князя Олега Владимировича люди. По его воле здесь. Великий князь Всеволод разрешил ему разорить гнездо Глебовичей, князей Романа и Святослава. Сами-то они во Владимире, в порубе маются. Вот мы и радеем.
– Это надо же! – покачал головой Юрий и, обращаясь к Константину, спросил: – Тебе неведомо, почто отец Олегу благоволит? Три года тому градом Пронском наградил, ноне рязанских князей добро отдал…
– Думается мне, что великий князь держит подле себя Олега и Глеба Владимировичей, чтобы при случае выставить их супротив рязанских князей, – медленно, подбирая слова, ответил старший брат.
– Так Глеб с Олегом тоже князья рязанские. Отдал бы отец Рязанскую землю им в кормление и не знал забот.
– Не все то мед, что сладко, – улыбнулся Константин. – Великий князь, может, и рад бы был так сделать, да захотят ли рязанцы князей-предателей над собой. Ярослав и года не удержался в Рязани, а этим-то живо головы бы свернули. Особливо князю Олегу. Видимо, вскорости сие и случится, уж больно князь Всеволод Чермный хочет добраться до него, помститься за пленение и чинимые унижения его дочери – жене князя пронского Михаила. А вот и сам князь Олег, легок на помине, – кивнул Константин в сторону вышедшего на высокое крыльцо княжеского терема приземистого, дородного мужика в малиновом кафтане. Уперев руки в бока и выпятив внушительных размеров живот, он с явным удовольствием наблюдал за работой челяди. Заметив княжичей, Олег помахал им рукой.
– Поехали отсель, – предложил Юрий брату. – Уж больно смердит!
Город пылал. Огонь играючи перекидывался от одной избы к другой, взлетал вверх по башенкам теремов, лизал купола и кресты церквей. Черные хлопья, кружась, падали на плечи и головы, забивались в распахнутые, орущие рты рязанцев, покрывали слоем залитое кровью место скорой казни виновных в бунте мужиков.
Великий князь был угрюм, сердце его болезненно ныло, затрудняя дыхание. Обернувшись к стоявшим позади него сыновьям, он тихо произнес:
– Не радуюсь я принижению врага своего, а плачу вместе с Рязанской землей, скорблю по убиенным, но иного пути усмирения смуты не вижу. Когда время придет и меня призовет Господь пред очи свои, хочу вам оставить княжество Володимирское великим и спокойным. О том радею, проливая кровь людскую. – И уже тише добавил: – Бог мне в том судья.