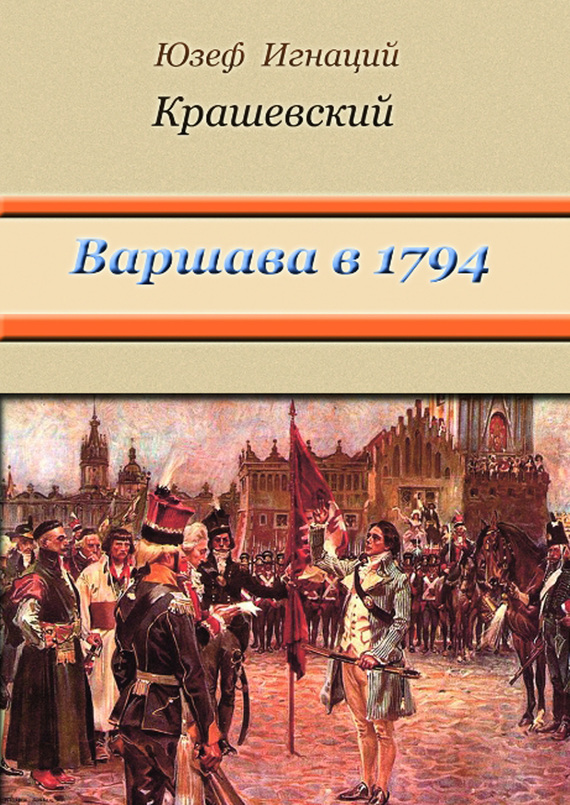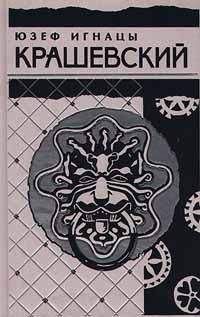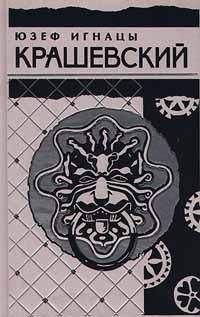и оценивала меня, что я мог стоить.
Её губы в итоге сжались с некоторым знаком недовольства, сложила руки на груди и стояла молчащая.
– Идём дальше, – сказал Килинский.
Шли мы тогда через другую комнату, которая была рабочим местом шорника, большая и просторная, а потом через разновидность кухоньки в более достойную третью, в которой пани Ваверская показала нам табуреты с видимым беспокойством и плохим настроением. Юта стояла немного поодаль.
– Не гневайтесь, не гневайтесь, моя добродетельница, – произнёс Килинский. – Поручик Сируц, которого я привёл к вам, рекомендованный мне, хороший, никаким легкомысленным парнем не является, честный ребёнок. Чем же он вам навредит, когда иногда придёт и слово принесёт, которое Юта отдаст туда, куда следует?
– Но, не оскорбив поручика, – начала старая Ваверская, – пусть это будет без травмы, вы могли также выбрать постарше… Э! Прекрасная вещь, как тут мундиры к нам зачастят… и люди про Юту болтать будут, – она махнула рукой. – Э! Э! – повторила.
– Но, моя пани мастерова, – возразил Килинский, – нам это нужно, чтобы его заподозрили, что влюбился по уши.
Он рассмеялся, но ни Юта, ни мать не дали себя этим развеселить. Скорее, лицо девушки приобретало суровое и всё более дикое выражение.
– Вы могли бы также подобрать постарше, – докинула Ваверская.
Посмотрев на мать, на Килинского и на меня, после размышления, Юта наконец сказала звучным и спокойным голосом:
– Пускай же матушка этим не терзает себя, – сказала она, – в такое время нечего думать о себе, когда тут родину нужно спасать. Пусть люди там плетут что хотят, пан поручик принесёт, что нужно, а я отнесу, куда следует. Раз уж комедия – нужно играть… так играть, чтобы москалей одурачить. Я не много забочусь, что скажут люди.
Ваверская пожала плечами.
– За Юту я вовсе не боюсь, – добавила она, похлопывая её по плечу, – ей голову сбаламутить нелегко, а поклонников коротко и узловато выпроводит.
Пусть бы там кто-нибудь решился, зачем попадать на людские языки.
– Моя мастерова, рассудите-ка, в чём тут дело, – сказал мастер, – нам ни одному не двинуться с тем, чтобы не иметь за собой шпиона… на Юту никто внимания обращать не будет… это необходимость… или мы спасём родину в этот период, или она погибла.
Юта живо прервала:
– Мне нечего сказать, что нужно – то нужно, пусть поручик приходит! Всё-таки однажды мы от москалей должны избавиться.
– И надеемся, что это наступит, – усмехнулся Килинский. – Но тут беспрестанно между войском и нами необходимо поддерживать связь… Как? Не знаю. Только скрываясь и мотаясь так, чтобы ничего не узнали.
Ваверская молчала, вздохнула.
– Но вы думаете, пане мастер, – сказала она, – что мне родина менее дорога, чем вам, и что я колебалась бы отдать за неё жизнь, как покойный мой Серафим. Пане, почти его душу, однако, не кто-нибудь, а я воспитала Юту, что имеет такое великое сердце, а ну, жаль ребёнка…
– А что ему будет? – спросил Килинский. – Уж поручик уважать её сумеет…
Затем пришло время и мне отозваться, а мне уже было жаль, что какой-то такой недоверчивый приём застал.
– Пани благодетельница, – сказал я вежливо, – мне очень больно, что, будучи использован в публичном деле, от которого не годиться отказываться, не могу поменяться моей обязанностью с кем-нибудь иным, чтобы не быть вам навязчивым; но могу заверить, что я воспитан в религиозном доме и никакого легкомыслия в жизни не допустил. Тем меньше можно меня подозревать в нём, когда речь идёт о таком деле, как наше… было бы криминалом… о чём другом думать, как о нём…
Юта приглядывалась ко мне и внимательно слушала, когда я говорил – моё слово попало ей в сердце…
– Ну, довольно, довольно, обо мне тоже речь, да бросьте, матушка… Я уже принялась носить сумки для пуль, бумаги и пароли… нужно выдержать до конца!
Её глаза зажглись как бы внутренним огнём…
– Отца моего убили русские! – прибавила она. – Пусть же я, слабая, хоть таким способом за него отомщу… Если бы и умереть пришлось!
В её глазах стояли слёзы, Ваверская их также вытерла фартуком. Килинский крутил усы.
– Ну, пане поручик, – сказал он, не допуская, чтобы дольше поплакали, – шутка шуткой… будешь первый раз в жизни выставлен под огонь неприятельских батарей, потому что глаза Юты… это хуже пушек… не дай же убить себя! Держись крепко…
Юта с каким-то сожалением посмотрела на меня сверху, я покраснел, не отвечая ничего… Мы встали со стульев, прощаясь с молчащей хозяйкой и красивой девушкой, которая только у вторых дверей, отвлечённая, кивнула мне головкой. Заспанного слугу достали с печи, чтобы осветил нам на лестнице.
Мы вышли на рынок. Килинский по молчанию и физиономии должен был догадаться, что я был в плохом настроении и не очень доволен – он взял меня тогда под руку.
– Ну, ну, – сказал он шутливо, – когда ты должен бы меня благодарить, что тебе так усластил служение родине, ты делаешь мне кислую мину, поручик.
Пан мастер был шутником и великим бабником.
– На вашем месте, в вашем возрасте, друг мой, я имел бы себе за счастье пару раз в день смотреть в глаза такой красивой панне… хотя бы без дальнейших последствий! А должен вам добавить, что так же, как она красива, она мужественна и степенна, почти скажу, героиня… То правда, что покойный Серафин Ваверский погиб от москалей… зарубили его… самым невинным образом… но дочка также… это полька, пане, какой поискать. Уж за то не ручаюсь, чтобы карабина не взяла. Она тут почти также деятельна, как я, и умеет отлично за себя постоять… и пройдёт везде.
Эти слова Килинского, брошенные при прощании, сильно меня удивили и пробудили интерес.
Я насмотрелся, хоть молодой, что в высшем обществе наши женщины в политических интригах были очень деятельны, и весьма разгорячился – но в том классе, к которому принадлежала Юта, я не допускал ни чувства патриотизма, ни возможности служить делам страны.
Несмотря на то, что я себе как можно торжественней поклялся не думать о красивой девушке, не смотреть на неё, от её образа не мог избавиться всю ночь… Она стояла перед моими глазами с тем суровым лицом, с огненными глазами, словно гневная, вдохновлённая и страшная, а, несмотря на это, притягивающая дивной красотой, которой я понять не мог. Ничего в ней не было женского, обаятельного, ничего мягкого, однако, имела для меня тем более особенное очарование, что ей его ни окружение, ни одежда, ни речь придать не могли. Дочка шорника, скромно одетая, без старания и