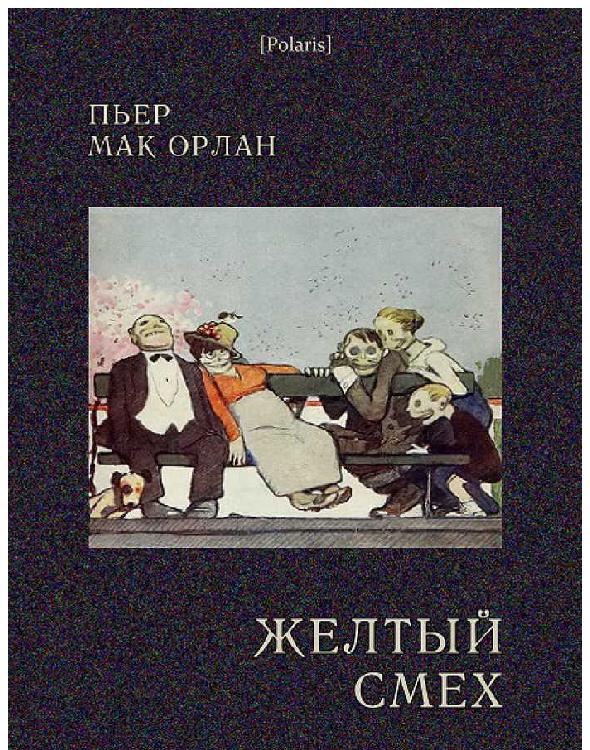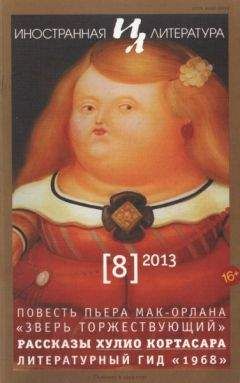что пять да десять, это будет пятнадцать; я уже пробыл десять лет; а с этими пятью и будет полностью.
— Хорошо кормят? — спросил я.
— Да это зависит, как… где… не всегда.
В приотворившуюся дверь просунулась голова капрала. «Желающие вступить в легион, сюда!»
Мы последовали за ним, прошли коридор и очутились в кабинете майора.
Майор был в штатском. Это был старый, добродушный человек. Первым прошел солдат колониальных войск. «Годен к службе!»
— Вы подождете вашу путевку.
— Так что, господин майор, у меня нет ни…
— А! Да! Вас зачислят куда-нибудь на продовольствие.
Очередь была за немцами.
Двое из них были приняты, у третьего не оказалось бумаг.
— Вы можете их доставить?
Последовал спор с писцом.
Настал мой черед.
— Зубы плохие, пишите, плохие зубы, верхний коренной слева; немного молод… хорошо.
Восемь дней спустя я был в Марселе, в форте Сен-Жан.
***
Я не буду останавливаться на посвящении меня в тайны военного искусства, а что касается описаний Бель-Аббеса, то две дюжины тщательно выбранных открыток дадут о нем более точное представление, нежели это смог бы сделать я. Я давно не видел Бель-Аббеса, но, по моему мнению, мечеть продолжает стоять на своем месте.
Впоследствии я пережил немало волнующих часов, но я навсегда останусь под тем впечатлением, которое произвело на меня призывное бюро. То была широко растворенная дверь к чудесам Ислама, ключ от тысячи и одной ночи. Тогда я не знал, что простой обход в карауле мне навсегда внушит отвращение к прекрасной природе, к литературным очарованиям финиковых пальм и к мрачному, как семейная жизнь, угрюмому Бледу с его трупоедами, с его голодными шакалами и тошнотворными гиенами.
Я быстро пробегу эти пять лет, которые могут быть сведены к следующему: шесть месяцев стоянки в Бель-Аббесе, со школой отделения и роты, с негритянским кварталом, Сенегальской лицей, кускусом [2], испанцами, евреями, баром легиона и служанкой Лизбет, родом из Люксембурга.
Затем, в полном снаряжении, с трубами, барабанами, горнистами, вся наша восхитительная компания отправилась в Уджду, чтобы наметить путь для прохода «семидесяти пяти».
Скучающие, никогда не выходя из бараков, где мы готовили себе кофе, опустошая при каждой получке лавчонку маркитанта, мы ждали дней сражения с нетерпением ученика, ждущего каникул.
В тот день было настоящее веселье в рядах «больших мундиров». Мы всегда шли бок о бок с «Черными ногами». Обычно их заставляли начинить пляску. Вы знаете, как это заведено. Раздавались свистки, играли горнисты, щелкали лебели. На красной и лиловой почве гор, позади низкорослых смоковниц, отвечали маузеры. Тогда приходила наша очередь и, когда легион развертывался по камням и тощим кучкам альфы [3], казалось, что старик Гомер настраивает свою лиру, чтобы воспеть красные кепи.
Я выпутался только благодаря своей молодости. Старые скоро умирают в легионе, потому что все они хотят нацепить военную медаль, которая даст им лишних сто франков. Что касается меня, я исполнял свой долг честного солдата, как другие. Традиция иноземных полков сохраняла дисциплину.
Существует песенка, которая дорога африканской армии и которую «весельчаки» присвоили себе:
Проходя по большой дороге,
Вспомни,
Что твои предшественники проходили по ней,
Без сомненья, до тебя.
Из Габеса в Татауин,
Из Гафсы в Меденин,
Из Мед'нин в Ин-Кабили
И конец…
Конечно, проходя по «большой дороге», мы вспомнили, что наши предшественники ходили по ней. И какие предшественники! От наемных солдат Гамилькара, направлявшихся к Карфагену, до «весельчаков» в помятых кепи, с их трубами, наигрывающими грубый и циничный мотив легкой инфантерии.
Все это, в конце концов, мы смутно почувствовали; правда, только гораздо позже.
Теперь эти долгие годы уже прошли, и что же? Я о них сожалею — и только. И, правда, по сравнению с теми годами, что я прожил после, время, проведенное в легионе, было небольшим, пустячным испытательным сроком, как бы имеющим намерение дать вам предвкушение рая.
Перед отпуском меня отправили на юг, «к верховым». «Юпанда, Юпанда», как говорится в песенке.
Конная часть пользовалась мулами, по одному на двух людей, благодаря чему могла совершать замечательные переходы.
Я упомянул об этом этапе моей жизни легионера, потому что он был отмечен нелепым случаем, которому суждено было приобрести значение в будущем.
***
Вследствие того, что несколько кочующих разбойников привлекли своими действиями внимание разгневанных военных властей на юге Коломб Бешара, нашей части было дано поручение занять этот пункт, и вот мы расположились лагерем, приняв обычные меры предосторожности.
Нас было семь человек. Мы спорили о том, чем можно заменить отсутствующий табак: альфой, верблюжьим навозом, эвкалиптом и т. д. Вдруг неожиданный взрыв смеха заставил нас вздрогнуть. Это так не подходило к обстановке, что впечатление было физически тягостно.
— Это гиена, — сказал Шмидт, мой сосед.
Смех раздался снова, менее сухой, более закругленный, если можно так выразиться.
На этот раз, сомнения не было — звуки исходили из человеческой глотки.
Послышались голоса: «Я вам говорил, он с ума сошел. Право, тут нет ничего веселого, приятель! Пойди за набом скорей, скорей, черт возьми!..»
Наб — это капрал.
Легионер споткнулся о наши ноги, так как мы лежали друг подле друга в тени мулов, навьюченных снаряженьем.
— Ах! Боже ты мой! Это ты, Горшенки, и ты, Мутонно? «Ястреб» здесь?
— Что случилось? — проворчал Шмидт.
— Это ты, Шмидт? Идем, дружище, посмотри на Бекера… Стоит того.
— Это он там дурачится?
— Послушай-ка его! Как его разбирает!
Мы последовали за Шмидтом. На прифронтовой линии выделялся высокий, тощий силуэт, то согнутый вперед в положении человека, держащегося обеими руками за живот, то запрокидывающий голову, как будто желая глубоко вздохнуть. Конвульсивный смех разливался то восходящими, то нисходящими гаммами. Вокруг человека стояли с дюжину легионеров — они потешались над ним, заложив руки в карманы.
— Ну и веселишься же ты, дружище! Расскажи-ка нам, в чем дело. Нельзя же смеяться одному, это невежливо, — заметил один.
— Это он и за прошлое, и в запас.
Когда мы подошли, лицо Бекера сияло в темноте весельем с яркостью большей, чем звездная. Было очевидно, что он задыхается. Его руки разорвали ворот мундира, затем он грохнулся на землю. Несколько конвульсий, сильный приступ смеха, перешедший в хрип, и солдат вытянулся на спине, как наповал убитый заяц.
— Ну как, Америка, лучше? — спросил Шмидт.
Бекер был американец, обычно флегматичный и суровый.
Бекер не ответил. Тогда Шмидт наклонился к товарищу.
— Клаэс, скачи к врачу. Так и есть, готов.
— Готов?
— Ну да, я прямо цепенею. Впервые вижу такую штуку.