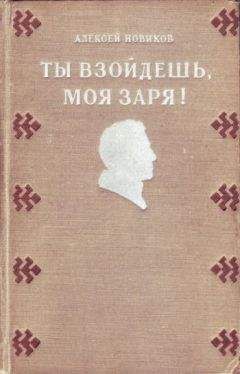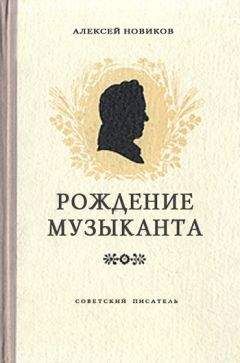Ознакомительная версия.
Музыку сменила оживленная беседа. Глинка с жадностью прислушивался и присматривался к новому поколению.
Когда гости разошлись, Мельгунов, несколько озадаченный смелостью речей, говорил Глинке:
– Ты еще главного из их компании не слышал. Он теперь в «Телескопе» критики пишет. Этот никаких авторитетов не признает. Послушал бы ты, как Виссарион Белинский про русскую словесность рассуждает… да я тебе посылал как-то его перевод писем об итальянской музыке.
– А я в Италии и сочинителя этих писем встречал. Для низвержения идолов полезная статья.
– А посмотрел бы ты, как у наших московских итальяноманов глаза на лоб полезли! Да кто таков этот Берлиоз?
– Из музыки его, – отвечал Глинка, – я только один романс слыхал. А вообще он больше о будущем говорит, вот будущего и подождем… А интересно бы мне с переводчиком «писем» познакомиться!
– Сделай одолжение… Ох, черт! – Мельгунов растерянно развел руками. – Я ведь и адреса его не знаю. Живет в какой-то трущобе за Трубой. А впрочем, случай, наверное, будет. Я новый журнал затеваю.
– А я все хочу тебя спросить, – перебил Глинка: – что такое с «Московским телеграфом» приключилось? За что именно его закрыли?
– А за то, что объявился в Петербурге некий Кукольник, новый Шекспир, а «Телеграф» его не признал. Написал Кукольник драму «Рука всевышнего отечество спасла» и взял предмет важный: освобождение Москвы народным ополчением Минина и Пожарского. Вот тут-то Шекспир и развернулся.
Мельгунов отыскал на столе тощую книжицу и брезгливо поморщился.
– Противно в руки брать, однако тебе, для познания нравов, воцарившихся в словесности, полезно послушать.
Он перелистал несколько страниц, нашел свои галки.
– Ну-с, как же быть петербургскому Шекспиру с русским народом? Народ одержал победу над польскими панами и над боярской крамолой. Вот и надо прежде всего поставить народ на свое место. Кукольник и заставляет вещать Пожарского на Красной площади:
Вам кажется, моя рука спасла вас?
Иль доблесть воев?
Бог спас святое государство!
Глинка с интересом наблюдал за лицедейством Мельгунова.
– Итак, – сказал Мельгунов, – с воинами, которые защищали родину, покончено; пусть не возомнят о себе и потомки героев. Но остается Кузьма Минин. – Мельгунов полистал пьесу Кукольника. – Теперь послушай, Мимоза, какие мысли выражает выборный от народа! Минина милостиво приглашают на собор, созванный для избрания царя. А он знай сгибается в поклонах:
Благодарю, бояре! Но я не сяду, нет! Я мещанин!
Позвольте мне, великие бояре,
Внимать вам, стоя у дверей…
– Можно подумать, что Кукольник писал пером Загоскина, – улыбнулся Глинка.
– С одной колодки шьют, – подтвердил Мельгунов и с негодованием швырнул книжку, которая, словно сама себя устыдясь, зарылась среди газетного хлама в дальнем углу кабинета. – И вот тебе история, Мимоза, – с горечью сказал он, присев к столу.
– А чем же провинился «Московский телеграф»?
– А тем, что Николай Полевой, не спросясь броду, тиснул в «Телеграфе» рецензию. Но не думай, что наш непримиримый романтик оспаривал взгляды Кукольника. Ничуть! Он посмел лишь усомниться в достоинствах стиха и стиля новоявленного Шекспира. И за то «Телеграф» был немедленно и навсегда закрыт. Понятно? Теперь твой знакомец Шевырев пишет о Кукольнике иначе: «Уважая русские чувства автора, мы и о недостатках его должны говорить с уважением…» Нашел русские чувства у спекулятора! Зато беспрепятственно проходит в профессоры Московского университета и, должно быть, из тех же русских чувств терзает наши уши своими итальяно-московскими октавами.
Мельгунов уложил бумаги и, перебирая в уме назначенные на завтра встречи, вдруг вспомнил:
– Кланялся тебе, Мимоза, Верстовский и звал к себе.
– Как его «Аскольдова могила» подвигается?
– Могильная тайна. Никому ничего не показывает. Придет, говорит, время, увидите песни наши во всей красе. Уверяет, что напал на счастливый сюжет.
– Счастливый? – с тревогой откликнулся Глинка.
– А! Читал роман? – спросил Мельгунов и тотчас забыл о всех неотложных делах. – Куда же деваться честным людям от Загоскиных в Москве, от Кукольников в Петербурге? – Николай Александрович воздел руки и заключил с сарказмом: – А мы все еще спорим и спорим о народности.
Споры о народности действительно шли, но не только в словесности, где состязался московский Вальтер Скотт с петербургским Шекспиром. Споры о народности, о назначении литературы шли и в тех университетских кружках, где имена Кукольника и Загоскина олицетворяли уродливое порождение самодержавно-крепостнического строя. Сам Мельгунов, проявлявший столь не свойственную ему зоркость, отражал мысли нового поколения. Но и Мельгунову было неведомо, что один из этих молодых людей, проживавший в какой-то трущобе за Трубой, уже приступил к обозрению всей русской словесности. Может быть, уже были написаны в это время Виссарионом Белинским первые строки будущих «Литературных мечтаний»:
«Мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим и, гордые нашей действительностью, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов. Увы… где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель? Как все переменилось в столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после столь сильного, столь сладкого обольщения!..»
– «…Услад ехал на свидание с Марией…» – Глинка перевернул страницу и усмехнулся. – Нет, ничего не выжмешь из этой сентиментальной чепухи!
– А я и то дивлюсь: зачем тебе понадобилась сия ветошь? Пожалуй, сам Жуковский отказался бы теперь от своей «Марьиной рощи». – Мельгунов взял у Глинки книгу и заглянул в конец повести. – «И поехал Рогдай в стольный Киев-град к князю Владимиру, к богатырям Илье, Чуриле, Добрыне…» Ну, не Жуковскому писать о русских богатырях.
– В том вот и дело, – подтвердил Глинка. – А мне все думалось: не найду ли в повести хоть какие-нибудь картины богатырской жизни богатырского народа? Плохо мое дело: ни сюжета, ни поэмы для оперы нет! А воображение не ждет, и жизнь нас, музыкантов, торопит. Все еще норовим русский характер в кадрили представить. Или сочиним дурацкие куплеты и любуемся: вот он, мол, каков наш русский мужик, – всем доволен!
– И Пушкин замолк, – с сокрушением отозвался Мельгунов.
– Статочное ли дело?
– Слышно было, – продолжал Мельгунов, – что собрался отвечать Александр Сергеевич Загоскину еще на «Рославлева». Но в свет ничего не вышло. А теперь жди «Историю Пугачева».
Глинка покосился на Мельгунова.
– Стало быть, не безмолвствует народ?
– Не знаю только, как Пушкин Пугачева через цензуру протащит. Если такое и случится, ей-богу, только Пушкину по плечу! На страх всем продажным перьям – шасть в словесность Пугачев: а про меня, мол, Пугача, забыли? А впрочем, гадательно! Весьма гадательно!
Глинка, слушая приятеля, подошел к фортепиано, стал листать тетрадь романсов и песен Мельгунова. Перелистал, положил на место и глянул на автора.
– Ну, что? – встрепенулся Мельгунов. – Говори!
– Да сказывал я тебе.
– Ты, сделай милость, обстоятельно расскажи. Хватит с меня недомолвок и присказок.
– В таком случае изволь. Вот ты песни для трагедии «Ермак» сочинил. Положил ты на музыку и пушкинские стихи. А промышлял кое-какими попевочками из тех, что сами в уши лезут. В том-то и беда, что эти ходячие романсы хоть от немецких песен отстали, да к нашим не пристали. Не выйдет, милый, дело, пока, подобно Ермаку или Пушкину, не проложишь своей, русской дороги. Или охота тебе быть во всеядных любителях?
– Да мы все и во всем любители, – неожиданно и с охотой согласился Мельгунов, – начиная с игры на фортепиано и кончая игрой в промышленность.
– Охоч же ты на капитуляции! – Глинка неудержимо рассмеялся. – Думаешь, угрем у меня из рук уйдешь? Нет, брат, сам хотел дельного разговора, так изволь слушать до конца. Помнишь, я писал тебе о нашей национальной музыке?
– Ничего ты мне не писал, – съязвил Мельгунов.
– А не писал, так на днях говорил.
– И все-таки не добьюсь я от тебя толку, Мимоза: что же это за русская музыка, русская музыкальная система?
– Для примера, послушай, что я на днях сообразил. Представь себе: беда на Руси; колеблются основы государства, как это было во времена Минина или хоть при Бонапарте, и в Москве засел враг; вот в это время и встает народ. Слова могут быть разные, а смысл один…
Он стал играть.
– Не знаю, с чем твою музыку сравнить…
– А ты не сравнивай, – Глинка на минуту оторвался от фортепиано. – Суди, как слышишь.
Он опять весь ушел в музыку. А когда кончил, сказал, весело потирая руки:
– А контрапунктик-то каков, а?
– Но ведь ты говорил о русской музыкальной системе!
Ознакомительная версия.