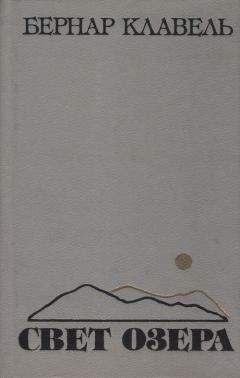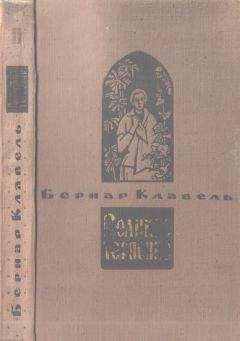Молчание, казалось вытеснившее из комнаты весь воздух, длилось до тех пор, пока Барбера не разделался с миской бобов. Ливень по-прежнему схватывался врукопашную с ветром, но шум их не мешал той жизни, что дышала здесь, где все застыло в ожидании иной драмы, готовой вот-вот разразиться. Капли дождя с шипением падали на тлеющие поленья. Время от времени под напором ветра глухо хлопала дверь.
Барбера поднялся, подошел к очагу, возле которого поставил сушить свои сапоги. Бизонтен тоже подошел.
— Если они у тебя дырявые, мажь их салом, не мажь — все равно промокнут.
Контрабандист просунул указательный палец в середину подошвы, прямо в дырку. Бизонтен заглянул под лестницу, притащил пару башмаков и протянул их гостю со словами:
— Примерь-ка эти.
Барбера надел хозяйские башмаки, поднялся и принялся вышагивать от печи до двери и обратно, после чего объявил во всеуслышание:
— Будто по мне сшиты, проклятые!
— Оставь-ка свои сапоги здесь, я подметки подобью Придешь к нам в следующий раз, мои башмаки вернешь.
И пока Бизонтен вслух вел беседу о сапогах с Барберой, его внутренний голос сердито вмешивался в их разговор: «Да никогда он сюда больше не приедет». И в то же самое время перед ним вставало лицо Блонделя, жестом останавливавшего порывы злого шквала, приказывая уняться небесному гневу, который помешал бы ему обратиться к жителям Моржа. «Вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающей». Бизонтен сам на себя сердился, что позволяет себе думать о подобных вещах. Он твердил: «Бизонтен, ты ведешь себя как малый ребенок. Никогда Блондель не останавливал шквала, и один только ты видел на нем светозарное одеяние». Он изо всех сил старался избегать этих слов, и однако лекарь из Франш-Конте был по-прежнему здесь, и, возможно, еще более светозарный, чем когда бы то ни было. Ушел в вечность еще один, и немалый, пласт насквозь промокшей мглы, и тут дрожащим голоском Мари спросила Барберу, где же похоронили Блонделя.
— Корзинщик, тот совсем перепугался, — ответил Барбера. — Как только увидел, что остался один, так и удрал, бежал сломя голову. Бросился в лес и понесся прочь, лошадей гнал как полоумный. Ну а Блондель…
Он махнул рукой и этим красноречивым жестом как бы хотел показать, что в подобные времена не так уж важно, где покоятся останки несчастного Блонделя.
— А когда это было? — снова спросила Мари.
Барбера почесал в затылке, задумался, посчитал что-то на своих толстых пальцах и назвал число. И в свою очередь Мари тоже что-то подсчитала и потом проговорила, бросив взгляд на Клодию:
— Как раз в тот день, когда собака к покойнику выла.
Барбера шагал взад и вперед по комнате, с довольной улыбкой разглядывая свои новые башмаки. Только он один, казалось, жил подлинной жизнью в этой комнате, где все другие словно застыли. После долгого молчания кузнец, до сих пор не произнесший ни одного слова, вдруг спросил:
— А что там Ортанс делает?
— Не надо ее трогать, — посоветовала Мари. — Вы же сами знаете, что она не желает показывать на людях свое горе.
— Возможно, что и так, — заметил Пьер, — но тут что-то другое. Хотелось бы мне знать, что это она задумала.
— Мне тоже это неведомо, — проворчал кузнец, — однако ничего доброго я не жду. Сколько уже лет знаю ее, еще малышкой знал, и, понятно, тревожусь. Этот Блондель ей совсем голову заморочил.
— Само собой, она вбила себе в голову, что будет продолжать дело Блонделя, — заметил Бизонтен. — Тут любой человек, а не ведун какой-нибудь и тот догадается.
— Продолжать его дело? Но кто же отправится на поиски детей? Не она же, в конце концов? — воскликнула Мари.
Все опустили глаза. Всех охватило на минуту смущение, и тут снова заговорил кузнец:
— Я ее так хорошо знаю, что ничуть этому не удивлюсь. Если никто другой этого не сделает, она наверняка задумала идти одна…
Старик устремил сначала на Пьера, а потом на Бизонтена настойчиво-вопросительный взгляд, и Бизонтен понял, что дядюшка Роша не решается довести свою мысль до конца. Так как все молчали, кузнец продолжал:
— С нее станется пойти одной… вместе с Барберой. А ведь она же барышня! Такой девушке устроили бы чисто королевскую свадьбу, так что пришлось бы каретнику заново все экипажи в городе покрасить.
Он оттолкнул от себя миску, хотя похлебку не доел, и обхватил голову руками. Опустив глаза, он пристально разглядывал начищенную до блеска столешницу.
— Господи, боже ты мой, — буркнул он, — теперь я уж совсем один останусь из нашего городка. Старый, всеми забытый пес…
Грудь его тяжко ходила, выдавая всю боль его души. После мгновенного колебания он, не глядя на собеседников, произнес:
— Будь я хоть лет на пятнадцать моложе, не пустил бы я ни за что ее одну… Сделал бы все, уговорил бы ее, чтобы здесь удержать. А если бы и это не удалось, пошел бы с ней вместе.
Снова нависло молчание, потом кузнец крикнул, в голосе его, так не похожем на обычный его голос, прозвучал гнев, а возможно, и с трудом сдерживаемые рыдания:
— Но тот-то, тот, он же вам всем сумел голову заморочить!.. У него они убили сынка, это понятно, ну а Ортанс здесь при чем! Да к тому же она женщина!.. Откуда он взялся и кто он такой, этот Блондель. Может, его нам сам дьявол послал!
Бизонтена так и подмывало крикнуть: «Вы же не видели его преображенным, останавливающим бурю, со светозарным, как солнце, ликом!» Но слова эти не шли с языка. Он смотрел на опустевшее за столом место Ортанс. Ему слышалось, как Блондель говорил об их Конте, как добавлял он, что предпочитает смерть разлуке с родимым краем.
А старик все твердил свое:
— Будь я на пятнадцать лет помоложе!
Бизонтен почувствовал на себе взгляд Мари, но невидимое присутствие Блонделя и та картина, что рисовал он себе — Ортанс одна уходит вместе с Барберой, — должно быть, пересилили этот взгляд, потому что против воли он проговорил:
— Конечно, надо сделать все, чтобы ее удержать, но, если уж она решит уйти, нельзя пускать ее одну.
— Ты прав, — подхватил Пьер. — Надо пойти вместе с ней.
Крик Клодии был сродни крику раненого зверя.
— Нет! Нет! — завопила она и, вскочив, как безумная бросилась к Пьеру, он едва успел повернуться на табуретке и подхватить ее, прежде чем она упала на колени.
— Нет, не хочу, чтобы ты уезжал… Не хочу, не хочу.
Она снова прижала обе руки к животу, и лицо ее исказила судорога боли.
Когда поднялся Бизонтен, Мари тоже поднялась и подошла к нему. Вытянув обе руки, она удержала его на расстоянии, чтобы он не смог прижать ее к себе, она хотела заглянуть в самую глубину его души, проникнуть в нее взглядом. Она сурово бросила ему в лицо:
— Если ты уйдешь, то, вернувшись сюда, уже не найдешь здесь никого! Ни меня, ни детей.
— Замолчи, — сказал Бизонтен. — Не пугайся зря…
Мари обернулась к кузнецу, упершемуся локтями в край стола и робко поднявшему на нее свои глаза в красных прожилках.
— А вы, — крикнула Мари, — если вам так уж не можется уйти — уходите! Но я не желаю их терять, понятно вам! Не желаю! Ни брата, ни мужа… Нет, нет, не желаю. И так у меня в жизни было столько горя…
Рыдания, идущие из самой ее души, заглушили эти слова. Бросившись на грудь Бизонтена, она уже не старалась сдерживаться. Горе и страх за него пересилили гнев.
Все так же не шевелясь, кузнец пролепетал слабым, жалким голосом:
— Да я и не хотел вовсе, чтобы они уходили. Я же сказал: это мне надо бы, потому что мне нечего терять. Но им-то есть о ком заботиться… Когда на руках ребятишки, нельзя идти на такой риск, это уж само собой… Ты, Мари, меня отчехвостила, но, поверь, зря… Я просто так говорил.
Бизонтен догадался, что Мари уже жалеет о своей гневной вспышке, но у него не хватало духа попросить ее подойти к старику и его поцеловать. Пришлось поэтому объясняться ему:
— Да нет, дядюшка Роша, никто этому и не поверил. Мы же вас хорошо знаем. Мари просто испугалась, вот и все. А когда человек пугается, язык треплет невесть чего, не от сердца такие слова идут. Вы небось сами это знаете! — И со смешком он добавил: — Впрочем, мы все тут немножко того, свихнулись. Ортанс, может, еще даже и не решила уходить, а мы тут убиваемся, будто она уже в дороге.
Смех его не вызвал обычного отклика. Сейчас ему стало ясно, что никто не сомневается в том, что Ортанс собралась в путь. И никто поэтому не удивился, когда она вышла из спальни в дорожных своих ботинках, в заколотом до колен платье, с толстым коричневым плащом, перекинутым через левую руку, а в правой она держала узелок. И все-таки Мари с криком бросилась к ней:
— Нет! Нет! Это же безумие!
Ортанс спокойно положила свои пожитки на край стола и, обняв Мари за плечи, с улыбкой посмотрела ей в глаза. И тут Бизонтену почудилось, что улыбка ее совсем такая же, как у Блонделя, когда он видел счастливое дитя.