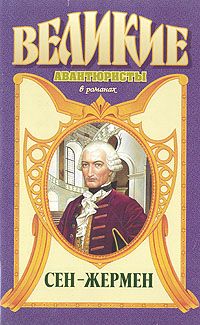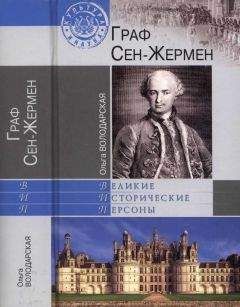Лето в том году стояло в Бельгии удивительное — жаркое, обильное дождями. Почти ежедневно над Арденскими горами грохотали громы, тучи поливали землю. Граф, пробуя свежие овощи, воду из горных речушек, жмурился от удовольствия. Не отказывал себе и в прогулках по окрестностям. Как-то признался Джонатану, что ныне Люксембург представляется ему подобием иностранного государства или, точнее заколдованного замка. Словно попал в сказки господина Перро…
— Ни одного знакомого лица! — восхищался он. — Представляете, Джонатан, все мои друзья-почтмейстеры, содержатели гостиниц, владельцы меблированных комнат, продавцы зелени, аптекари, башмачники, портные словно испарились. В былые времена они почитали за честь встретить меня у порога. Что за поветрие прошло? Или всем, кто когда-либо видел графа Сен-Жермена, запрещено появляться в городах и селах?
Джонатан только закатывал глаза к безоблачному небу.
— Это поветрие называется время, — пытался он втолковать графу.
Тот только посмеивался в ответ.
Случалось, Сен-Жермен посещал городские кладбища, отыскивал знакомые имена и все говорил, говорил. Без конца рассказывал сопровождавшему его в прогулках молодому англичанину удивительные истории о людях, когда-то проживавших в этих краях. Джонатан постоянно испытывал мучения оттого, что был не в состоянии запомнить все эти безумно интересные рассказы. Он разрывался от желания немедленно помчаться в гостиницу и записать очередную повесть и услышать завершение новой, еще более интригующей истории. Иногда Джонатан буквально умолял Сен-Жермена помедлить или начать все сначала, однако старик отговаривался тем, что все эти «фаблио» — пустяки. Шелуха истории, неписаной и неизвестной. Тогда Уиздом нарочно сбивал графа на воспоминания о поездке в Гаагу в 1760 году и об интриге, затеянной против Сен-Жермена, герцогом Шуазелем.
— О, да! — кивал граф. — Мой лучший друг той весной повел себя далеко не лучшим образом…
Это тоже бесило молодого человека — как можно было называть лучшим другом человека, который пытался засадить тебя в Бастилию. Зачем? И почему граф бульдожьей хваткой вцепился в эту, уже достаточно забытую войну, когда в его памяти сохранилась уйма куда более занимательных и поучительных историй?
— Им не достает морали, — отвечал граф. — Эти живые зарисовки занятны, но в них нет ответов.
— Какую же мораль можно извлечь из истории Семилетней войны? — иронически вопрошал Джонатан.
— О мой юный друг, — граф поднимал указательный палец, — как раз в раздумьях над событиями той войны достаточно смысла. Надеюсь, мои записки предостерегут кое-кого от желания сражаться на два фронта. Если даже нет, если кое-кто все-таки попытается провернуть подобный фокус, то, по крайней мере, не сейчас. Угрозу развала системы европейской безопасности, сложившейся в прошлом веке, я устранил — это уже не мало. Надеюсь, век девятнадцатый ограничиться местными, не выходящими за рамки Европы столкновениями и не разразится мировой катастрофой.
Что мог ответить на эти безумные высказывания Джонатан Уиздом? Пожать плечами, пожалеть тронувшегося умишком пережитка, подчас позволить себе незлобивую иронию? Граф не обращал никакого внимания на редкие, легкие насмешки, на которые, случалось, позволял себе сорваться молодой англичанин. После каждого такого укола, остыв, Джонатан начинал корить себя — даже если его работодатель немного не в себе, то в этом безумии было в избытке обаяния и здравого смысла. Оно отлилось в какую-то редко встречающуюся манию, словно граф Сен-Жермен, приписавший себе способность заглядывать в грядущее и, исходя из очертившийся перед его глазами картины, пытался хотя бы в какой-то мере облегчить страдания будущих поколений. По крайней мере, признался себе Джонатан, ему нельзя отказать в искренности и неистребимой любви к людям. Эти чувства каким-то оригинальным образом мешались со знанием горькой истины. Подобный коктейль, случалось, прошибал Уиздома до слез. Порой, засыпая, только на мгновение представив, как он уходит со стариком в объявленную им даль, в сновидческое пространство, он начинал ощущать неодолимый, волнующий зов тайны.
Начинался он с подзванивания, скоро переходящего в вибрирующую повторяющуюся мелодию, исполняемую басовитыми, гундосыми голосами. Затем приходил сон. Чаще всего Джонатан обнаруживал себя на корабле, стремящемся на запад. Или, как подсказывали ему внутренние ощущения, в обход мира. Однажды, в некой жаркой стране, заглянув в полдень в колодец, он увидел звезду. Это было потрясающее, девственное открытие!
Все это время Джонатан даже не вспоминал об удивительном приключении, случившемся с ним в Париже, о знакомстве с не менее странным, чем граф Сен-Жермен, стариком. Предложение барона Ф. казалось не более, чем экстравагантной выходкой свихнувшегося на интригах аристократа, каких, по-видимому, в прошлом, восемнадцатом веке было хоть пруд пруди, и все равно англичанин, помня о негласном обязательстве, аккуратно заполнял второй экземпляр записок. Он пока не решил, как поступить с ними. Мечты мечтами, сновидения сновидениями, но воспоминания Сен-Жермена в самом деле представлялись небесполезными в практическом смысле. Они вполне могли обеспечить будущее разумного и дальновидного человека. Вот какие соображения мирно уживались в его душе, благоденствующей при теплой погоде, в коляске, снабженной мягчайшими рессорами; в соседстве с удивительным старцем пополняющейся запасом впечатлений. Колыхнуло Уиздома в городе Люксембурге, столице герцогства, когда они с огромным букетом цветов явились на местное кладбище и отыскали могилу какого-то неизвестного Ицхака-Шамсоллы-Жака. Могила была ухожена, в изголовье ангел с вскинутыми к небу руками. По основанию камня арабская, заваливающаяся справа налево письменная вязь…
— Персидская, — подсказал Джонатану Сен-Жермен. — Эта надпись сделана на фарси. Шамсолла был родом с Кавказа. Любил море. Особенно ходить под парусом…
Граф помолчал, потом добавил.
— К сожалению, я боюсь обильной воды, качка наводит на меня ужас. А он, бывало, пел на корабле. Как начнет горланить что-то свое, зажигательное, хоть уши затыкай…
Он промокнул глаза, повернулся и, не оглядываясь пошел по аллее к выходу.
Вот когда Джонатана пронзило воспоминание о разговоре с бароном Ф. Он собственно никаких обещаний не давал, они, в общем-то, ни о чем не договорились. В словах барона было много разумного и бесспорного, но за всем обыденным содержанием их беседы и, если хотите, негласного уговора, теперь вдруг открылась та самая ширь, о которой упоминал Сен-Жермен. Явь, ограниченная рамками беседы с бароном, и фантастический простор никак не соприкасались. Одно закрывало другое. Так часто бывает, признался себе Джонатан. В двух шагах от его ног находилась могила неизвестного Ицхака, чистенькое кладбище, купы деревьев за оградой, и над всем пейзажем, как бы отодвинув его, возник не пройденный простор, где задувал свежий ветер и на полуденном небе обозначился рисунок неведомых созвездий. Джонатан на миг оцепенел, удивляясь подступившему видению. Несколько секунд он, затаив дыхание, мысленно рассматривал открывшийся ему берег неведомого моря с нависшими над прибрежной полосой горами. Исполинский конус вулкана, подгоняемый свежим морским ветерком, плыл на восток, в жаркие пустыни, а сбоку, в полнеба вставало блистающее пронзительной белизной, взметнувшее вверх облако. В нем созревала гроза. К вечеру ухнет — Джонатан наверняка знал об этом. Вдоль берега скопления рыбачьих лодок, в них шустрые, мечущие сети люди в шароварах и чалмах… Человек в белом тюрбане на высокой мусульманской башне, взявшись за мочки ушей, уже второй раз пропел — «Ашхаду ан ля илляха илля Ллху»…[163] Те, кто успели разлохмаченной веточкой почистить зубы, расстилали коврики…
С некоторым усилием сквозь бирюзовую водную гладь, подбитое желтизной небо, слепящую, броскую белизну блака проступили разбросанные там и тут мраморные изваяния, за каменной кладкой ограды — изумрудно-глянцевые купы деревьев, чуть в стороне возвышалась колокольня из серого камня…
Джонатан судорожно прикрыл веки, видение исчезло. Явилась мысль о справедливости замечания Сен-Жермена, что знать или не знать — пустой вопрос. Просто мелочевка по сравнению с тем, что только что открылось перед ним. Удивительное дело, ему пришло в голову, что как раз к подобной ясности призывал священник в церкви в его родном Гринвиче. Только в тот раз это были слова, а теперь они оделись в плоть.
Джонатан открыл глаза. Перед ним вновь открылся прямоугольник дерна, могила, ангел, вскинувший руки к небу, рябь листвы, сквозь которую посверкивали солнечные лучи. Он закрыл лицо руками. Так и стоял несколько минут, потом неловко повернулся, надел цилиндр и зашагал к выходу. Там его поджидал Сен-Жермен.