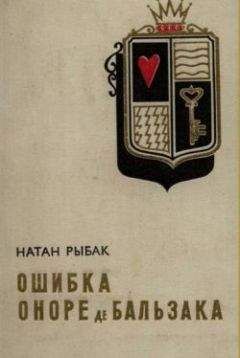Совсем некстати Бальзаку вспоминаются его же слова из книги «Физиология брака»:
«Брак — это смертельный поединок, вступая в который супруги просят у неба благословения».
Он гонит от себя эти оскорбительные слова. Он не желает думать о них. Но они настойчиво обступают его.
Прелат опускает глаза. Сквозь узенькие щелки он видит двойной подбородок Ганской, черный пушок на верхней губе, видит раскрытые губы Бальзака, обвисшие, словно мокрые, усы. Прелат поднимает веки и смотрит в глаза новобрачным. Бальзак брошенным наискось взглядом ловит на стене огромную зловещую тень священника.
…И когда над костелом св. Варвары в Бердичеве рассвет надувает свой парус, направляя корабль дня в новый путь, Оноре Бальзак, законный сын Бернара-Франсуа Бальзака и Анны-Шарлотты-Лауры Саламбье, и Эвелина-Констанция, законная дочь графа Ржевусского и Юстины Рдултовской, становятся супругами перед богом, законом и людьми.
В карете, коснувшись пальцем холодной руки Эвелины, Оноре, тяжело переводя дух, сдерживаясь, чтобы не захлебнуться страшным кашлем, с надеждой говорит:
— Теперь мы начнем новую жизнь, Ева!
Эвелина не отвечает. Откинувшись на подушки, она думает о своем.
И в этот миг Бальзак, отдернув шторку, блуждая взволнованным взором по бескрайней степи, проплывающей за окном, начинает понимать жгучее, властное содержание слова «ошибка». Того самого слова, которое, будто удар молнии, рассекало мглу его страданий в нестерпимые парижские ночи, которое вело его на цепи неизбежности и которое он напрасно долгое время считал только обманчивым.
Они сидят в карете рядом, плечом к плечу. Молчат. Стена равнодушия вырастает меж ними.
Восходит день над трактом. Колышутся дали. Что ждет их впереди? Бальзак не знает. Он сжимает зубы, сдерживая кашель, закрывает глаза.
Так возвращается усталость, страшная и ненавистная.
Так сужается круг.
И все же через несколько дней к Бальзаку возвращается душевное равновесие. Может быть, причиной тому хорошее настроение Эвелины, кто знает. Эвелина в самом деле внимательна к нему. Можно сказать, даже подчеркнуто внимательна.
— Хорошо ли вы подогрели сливки для мсье?
Он слышит в вопросе Эвелины, обращенном к горничной, нотку строгости.
Она сама проверяет бутылки с горячей водой, которые кладут ему на ночь в ноги.
— Сегодня вы не будете читать, Оноре, у вас покраснели веки.
Доктор Кноте, по желанию Эвелины, живет теперь безвыездно в Верховне. Его поселили в управительском флигеле.
— С тех пор как эскулап Кноте здесь, я перестал болеть, — шутит Бальзак. — Вероятно, достаточно одного присутствия врача, чтобы болезнь испугалась.
— А я тешила себя мыслью, что причина выздоровления иная… — Эвелина с укором глянула ему в глаза.
— О Ева!
В доказательство своего чувства следовало стать на колени и расцеловать ей руки. Не те времена. Спасибо, если хватит духу высидеть несколько часов в кресле…
Эвелина пытливо поглядывает на Бальзака. «Что она, впервые видит меня?» Ее не в меру внимательный взгляд раздражает. Бальзак закрывает лицо ладонью. Эвелина вздыхает, безмолвно встает, и, когда ее шаги затихают за дверью, Бальзак отнимает руку от лица. Он подходит к зеркалу, висящему в простенке. Из золотой рамы смотрит приземистая фигура со всклокоченными волосами. Высокий лоб, изборожденный глубокими морщинами, полные пересохшие губы раскрыты. Тяжело поднимается и опускается грудь. В глазах лихорадочные огоньки. Двойной подбородок тяжело нависает над высоким белоснежным воротничком.
— Неужели это я? — шепчет Бальзак.
— Конечно, ты, — шевелит в ответ пересохшими губами чуть смущенный вопросом господин в золотой раме. — Ты, ты, мой почтенный друг.
Пораженный тем, что он увидел в зеркале, Бальзак в тоске выходит из комнаты. Он поднимается в свой кабинет и бездумно перелистывает чистые, нетронутые стопы бумаги. Тревожные думы грызут его. И в чем обрести утешение? Впрочем, он решается в этот вечер написать своему далекому другу Зюльме Карро в Париж: «У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, но у меня будет самое солнечное лето и самая теплая осень». Он пишет эти слова и понимает, что это ложь, химера. Не будет уже у него ни лета, ни осени.
Весенние дни сменялись один за другим. На лугах уже разостлался ковер нежных трав и уже славно пригревало апрельское солнце, когда в двадцать пятый день месяца Бальзак и Ганская оставили Верховню. Путь их лежал на Париж, через Броды, Краков, Бреславль, Берлин, Франкфурт.
Поездка была не очень веселая, не таким должно быть свадебное путешествие. Оно длилось почти месяц. Пришлось задержаться в Кракове, ибо снова начались боли в сердце. Отдохнув, двинулись дальше, но во Франкфурте снова осели на несколько дней. Лишь двадцать седьмого мая они прибыли в Париж.
И страшнее всего было то, что, въезжая в Париж, он, как и на обратном пути из Бердичева после венчания, ощутил в сердце непреодолимую, ужасающую усталость. Она нагнала его здесь, а он-то верил, что избавится от нее, как только попадет в спасительную атмосферу Парижа. Он с надеждой опустил окно кареты и жадно вдохнул парижский воздух, но этот воздух был сухим и горьковатым на вкус, от него защекотало в горле, и Бальзак утомленно закрыл глаза. Он был равнодушен ко всему.
Эпилог. РАЗВЕ ВЫ НЕ ЗАВИДУЕТЕ ЕМУ?
Вечером 18 августа 1850 года человек в серой накидке, с букетом цветов, остановился у резной дубовой двери дома № 12 по улице Фортюне.
Серебристый месяц взошел на облачном небе и залил холодным сиянием весь квартал. Человек отер вспотевший лоб и посмотрел вверх. Лунный свет упал на его лицо. Оно было замкнутое и печальное. Склонясь к цветам, человек вдохнул пьянящий, одурманивающий запах чудесных левкоев.
Потом он позвонил. Ждал, прислушиваясь к суете за дверью. Однако на звонок никто не вышел. Тогда он дернул шнур вторично. Чья-то рука откинула задвижку, дверь открылась, навстречу позднему гостю вышла служанка со свечой.
— Что вам угодно, сударь? — спросила она охрипшим голосом, глотая слезы. Они сбегали ручейками по щекам, и рот женщины болезненно кривился.
— Я Виктор Гюго, — вежливо произнес посетитель, все еще не переступая порога. — Будьте добры, проводите меня к мсье.
— Прошу, прошу вас. — Служанка заторопилась, поднимая свечу высоко над головой и показывая дорогу гостю.
Гюго перешагнул порог. Служанка провела его в хорошо знакомый ему зал на первом этаже. Она притворила за ним двери, и он остался в одиночестве. Взгляд его приковал огромный мраморный бюст хозяина дома работы Давида Анжерского. Мраморная громада поблескивала на консоли продымленного камина.
Сколько раз ни рассматривал Гюго этот бюст, всегда он находил в нем что-то новое. Верно, теперь он мало похож на оригинал. Невеселые мысли прервала горничная, появившаяся на пороге. Вся в белом, она казалась бы привидением, если бы не заговорила.
— Мсье хочет видеть больного? Мне сказала служанка.
Гюго поклонился и тихо ответил:
— Да.
— Хорошо. Через несколько минут можно будет пройти к нему.
Горничная расплакалась. Он стоял с левкоями в руках, растерянный, не зная, как успокоить эту женщину.
— Он умирает. Мадам ушла к себе. Врачи еще вчера потеряли всякую надежду. У него рана на левой ноге. Антонов огонь.
Горничная говорила это тихо, словно шептала слова молитвы, сквозь речь прорывались рыдания.
— Врачи, мсье, не знают, что делать. Они говорят, что у него какая-то жировая водянка, кожа и мышцы настолько пропитались жиром, что не поддаются проколу. А началось с пустяка. Месяц назад, ложась спать, мсье зацепился за ножку кресла. Кожа прорвалась, и вода вытекла. Врачи говорили: «Удивительно!» Это их поразило. С тех пор они стали делать ему проколы. На ноге образовалась язва. Доктор Ру оперировал мсье. Вчера сняли повязку. Рана, вместо того чтобы зажить, стала красной, сухой и воспаленной. Тогда врачи сказали: «Он погиб», — и больше не приходили. Мы вызвали еще четырех, все они ответили, что помочь ничем нельзя. Прошлой ночью ему было очень плохо. С девяти утра мсье ничего не говорит. Мадам вызвала кюре. Он причастил мсье. С одиннадцати часов он только хрипит. Он не переживет этой ночи. Если хотите, я позову мсье Сюрвиля, он еще не ложился спать.
Женщина вышла. Она исчезла за порогом, как призрак. И, не появись господин Сюрвиль, Гюго решил бы, что это дурной сон. Но Сюрвиль, муж сестры Бальзака, подтвердил слова горничной.
Гюго на цыпочках двинулся за ним. Они поднялись по лестнице на второй этаж. Сверху доносился тяжелый больничный запах. Сжав зубы, неуверенно, как будто наступая на иголки, Гюго вслед за Сюрвилем, представительным, на редкость равнодушным господином, вошел в темный маленький коридор. Спутник нащупал дверь и открыл ее. Еще с порога Гюго увидал Бальзака и понял, что надежды нет.