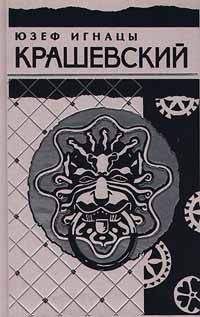порубленных, окровавленных, разоружённых, волочащих покалеченных лошадей. Однако неожиданно многие из них бежали назад. Фрида, не дожидаясь приказов князя, сама позвала к себе Дразгу.
– Охраняйте усердно замок, – сказала она сурово, – князь всё сдаёт на вас. Не один раз армию разобьёт враг, а завтра она возмездием заплатит… Не позволяйте сеять тревогу.
Сама она вернулась к Белому, которого не покидал Бусько. Услышав через дверь тихую беседу между ними, она прижалась к двери и притаилась на пороге.
Бусько со стоном говорил господину:
– Стоило нам рваться сюда на эти зловещие пепелища? Неужели нам так плохо было с монахами? А не там, то в Буде и Вышеграде нельзя было жить? А чего нам не хватало? Ты доверился злым людям.
– Лучше бы я их не знал, предатели, – простонал князь, – все предатели… Один Ласота заслонял меня и защищал. Былица сбежал… Бартек из Венцбурга напал на меня… мне пришлось его полоснуть… Я ещё чувствую, как он мечом ударил меня по шлему, что из глаз посыпались искры. Ласота меня освободил. Да, Бусько, да, мудрым быть слишком поздно, хорошо было в Буде… Опьянили меня… и покинули…
Фриде достаточно было этого отрывка разговора, чтобы понять, что делалось с князем. Она вздрогнула от тревоги, как бы после этого поражения он от всего не отказался. Она живо ворвалась в комнату, Бусько, увидев её, опустил голову, начал завязывать господину ноги и – молча упал.
Бодчанка, хоть на душе ей было грустно и горько, показывала безоблачное лицо.
Белый поглядел на неё и слегка засмущался. Она пожала плечами.
– Люди говорят, – воскликнула она, – что там больше сбежало, чем пало. Что удивительного? Солдат учится воевать только поражениями, не иначе. В другой раз будут лучше биться. Уже возвращаются… ворота не закрываются, столько их прибегает отовсюду. Нужна только сильная рука, чтобы держала их. Ласота, жалко Ласоту…
– Он пал, – коротко сказал князь.
– Дразга его заменит, – подхватила живо Фрида.
Она приблизилась к кровати.
– Вы ранены? – спросила она.
Князь, словно сам не знал, поглядел не себя, на свои руки и ноги; не в состоянии дать ответа, он показал только голову, которую разделила пополам синяя полоса!
Шепнув что-то Буське, Фрида вышла.
Достаточно неловко, вместе со слугой, которого позвали, старый слуга собрался раздеть князя. На Белом были хорошие доспехи, поэтому до него не дошли наносимые удары, но через них чувствовался почти каждый порез.
Бляхи под ударами прогнулись и давили на тело, в котором скопилась подкожная кровь. Руки, спина, плечи, голова были покрыты синяками.
Принесли вино, приготовленное с травами, и начали обкладывать им побитого, который, забыв уже о поражении и обо всём, уснул глубоким сном.
Когда под Гневковом Ясько Кмита с Бартком из Вицбурка нанесли такое ощутимое поражение Белому князю, весть о нём, расходящаяся по Великой Польше, именно в тот момент, когда землевладельцы и вельможи возвращались со съезда в Кошицах, разволновала умы так же, как новости, которые пришли из Венгрии.
Дерслав Наленч, всегда праздный отшельник, который сидел в своей Большой Деревне вдалеке и знал лучше других, что делается на свете, собирался ехать в Познань.
Из того, что до него дошло издалека и глухо, он смекал, что великополяне не достигли в Кошицах того, чего хотели, что там, как всегда, краковские паны, Топоры и Леливы, Завиша из Курозвек с отцом и братом, делали, что хотели, а великополян вынудили молчать. Из повествований он заключил только это, а хотел знать больше.
Итак, несмотря на пасмурный день, старик уже приказал подавать себе коня, и собирался на него сесть, когда бедная холопская повозка в пару коней закатилась на двор, постояла немного у ворот, а потом направилась к дому.
На повозке, выстеленной сеном, никого видно не было; поэтому Дерслав стоял и ждал, когда кони наконец притянут повозку. Из неё поднялась бледная, перевязанная тряпками, голова Ласоты. Дерслав даже крикнул от удивления, а на этот крик из дома выбежали его женщины; на повозке лежал, покрытый сермягой, окровавленный бедный Наленч.
– Из-под Гневкова! – крикнул Дреслав, заламывая руки.
– Едва живой, – ответил Ласота. – Мне захотелось сюда приехать, чтобы хоть похороны христианские устроили.
Дерслав отверенулся, воскликнув:
– Хей, послать за бабой, за Трухлицей, и за овчаром! Они с ним справятся.
И, подойдя к повозке, он начал спрашивать по-военному:
– Тебе отсекли руку или ногу? Нет! Слава Богу! Внутренности целы? Покажи голову. Кость не перерублена. Ран много, но мясных. Кровь восстановится…
Он сразу горячо взялся.
– Взять его на руки и на моё постлание, – кричал он. – Трухлицу хоть за волосы тащите, чтобы с травами тут была, и скорее.
Когда люди подняли Ласоту, хоть он стиснул зубы, у него вырвался крик. Женщины вторили стоном.
– Стыдись! – воскликнул Дерслав. – Что значит боль, когда в человеке есть сердце? Смейся! Будешь здоров, как рыба. У Трухлицы есть травы, которые исцеляют, хотя бы огонь был в ране. А давайте Трухлицу!
Может, больше, чем травы бабы, на Ласоту подействовали прекрасные глаза Питруши, которая с матерью пошла за больным. Дерслав отправил коня и остался при Ласоте, ухаживая за ним по-мужски.
Когда Трухлица осматривала раны, обкладывала и залепляла, тот рассказал, как, некогда изрубленный, он лечился, и исцелился благодаря тому (согласно его убеждению), что имел разум, потому что ел и пил и не давал жизни в себе угаснуть. Тогда он приказал варить для Ласоты жирный крупник, а так был уверен, что с помощью Трухлицы, овчара и крупника он скоро будет здоров, что хотел повременить с поездкой в Познань, пока Наленч не поднимется.
Быть может, что всегда подозревая родственника и Питрушу в более сердечных, чем ему бы хотелось, отношениях, он предпочёл бы больного с одними женщинами не бросать. А тут снова общее дело лежало у него на сердце.
Выудив из Ласоты то, что он только знал о князе, и что о нём думал, проведя с ним более долгое время, Дерслав вынес решение.
– На этого Пяста нам нечего смотреть – напрасно! Нужно отказаться от всякой мысли о нём. Я сопротивлялся этому, когда Предпелк, Шчепан из Трлонга и Вышота, вернувшись, решили, что из него ничего не вырастет, я думал, что он прямо рассердил их и были на него злы, но теперь вижу, что это дудка, в которую нужно непристанно дуть, чтобы издала какой-нибудь голос. Поэтому прочь этих дудок! Пусть наши на неё не смотрят – нужно Зеймовита Мазура упросить. Те знают, чего хотят и куда идут.
С этим решением Дерславу нужно