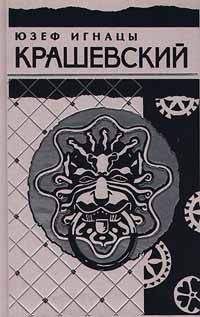которых они лежат. Наконец и королевские подводы даровал…
Слушали в молчании.
– Ну, – забормотал Дерслав, – обещать легко, посмотрим, что сдержит. Окружает себя малополянами, они будут представлять его совет, всё пойдёт по их желанию… а мы, как были, так и будем обиженными.
Спытек вздохнул.
– Дайте закончить, – сказал он, – нужно допить кислое пиво, которе нам наварили. За эти все милости и свободы мы должны принять дочку на трон с мужем, какого ей выберут, поэтому, хоть бы немец был чистой крови, которая для нас яд… мы должны будем ему кланяться.
– Хо! Хо! – кричали по бокам.
– Посмотрим! – смеясь, добавили другие.
– Тут нам уже немного и голод давал знать о себе и сильня тоска… а ворота в Кошицах, как стояли запертые, так и остались. Совет за советом, мы должны были молча согласиться, чтобы нам их отворили.
Встал судья Янко из Острова и сказал грубым голосом:
– Это всё писалось не по доброй воле, по принуждению, поэтому мне ничего не стоит, а мы так же свободны, как были до этого.
– И не хотим его дочку! – крикнул старый Наленч, а за ним поднялась буря кричащих голосов: «Не хотим!»
Поднялся такой шум, что Спытек, оглянувшись и увидев, что вряд ли ему дали бы говорить, сел на скамью, махнув рукой.
– Милейшие, – заговорил один Побог, – королевским привилеем, как он есть, помыкать не годится. Мне видится, что лишь бы сумели, из него можно сделать петлю, на которой и Людвика, и его преемников мы сможем водить, как нам хочется.
Заметьте и то, что король Казимир землевладельцев давил, холопов ласкал, мещан выносил, чужеземцев приводил, что рыцарство при нём не могло ничего, потому что он его, как Мацка Борковича, морил голодом и казнил… а Кошицкий привелей так поднимает помещиков, что теперь без них никто не выезжает, и как они запоют, все должны будут скакать.
Отвечало продолжительное молчание; встал Дерслав.
– Между словом, письмом и делом широкое поле, – сказал он. – Король, который предоставлял такие большие свободы, всё-таки морил вас в Кошицах голодом и тюрьмой вынуждал, чтобы вы эти милости приняли. Паны пишут иначе, а делают по-другому Эти обещания – ветер. Что нам от них? Пан не свой, традиции и кожух ему смердят, дочка тоже будет нам чужой, муж – чужим ей, мы пойдём под власть немцев. Нам нужен Пяст и нужно вернуться к их крови.
Никто не отрицал, но многие бурчали.
– А откуда его взять?
Один сказал из угла:
– Ну что? Толпой идти к Белому, помогать ему… Пусть удержится… возьмём его к себе. Неплохой бунтовщик…
Встал Дерслав.
– Лучше скажите, что бунтовщик никакой, – крикнул он. – Спросите у присутствующих здесь Вышоты, Предпелка и Шчепана, которые вывезли его из Дижона, как портил и путал им каждый день, желая что-то другое. Мы видели, как он бросился на замки, захватил их несколько, а потом сдался, когда смог удержать. Теперь его Ясько Кмита с Бартошем позорно побили под Гневковом. Судзивой возьмёт его снова, потому что он у него в Золоторые, как в кулаке.
Я сам, – прибавил Добеслав, – я смотрел на него и рассчитывал на него, у его бока был мой родич, который следил за каждым шагом, и говорю вам, что там от этой Пястовской крови осталась только вода. Нечего на него смотреть, не стоит ему помогать. Он слабый, но жестокий, резкий, но неуклюжий, а именует себя княжичем, – который одновременно худеет и растёт. Нам нужен иной государь.
– Откуда его взять? – спросил судья. – Силезские Пясты, чистые немцы…
– У нас есть мазуры, – сказал Дерслав. – Мы должны тащить Зеймовита. Говорят, что он сопротивляется, потому что боится Людвика, ну, со временем его может не стать, Зеймовит преобразится…
Когда Дерслав перестал говорить, ни один голос не послышался ни за Белого, ни против Зеймовита.
Скорее, они совещались о том, как его заполучить, потому что было известно, что его уже напрасно искушали.
Бартош из Одоланова, на которого они много оглядывались, слушал, поглядывал вокруг, но, несмотря на то, что они ему, казалось, бросают вызов, он не хотел громко выступать.
Сидя на лавке и расставив широко на столе руки, он только сказал ближайшим:
– Предоставьте это времени – и не думайте о другом, мы хотим его. Сейчас говорить об этом и привлекать на него взгляды короля и королевских – нельзя. Я знаю, что когда наступит пора, мы найдём его готовым.
Дерслав, который слушал нагнувшись, закончил тихое совещание словом:
– Гневковского князика… чтобы людей не баламутил, голов напрасно не кружил и не стоил напрасной крови, нужно предоставить его собственной судьбе.
За Белого никто не заступился, напротив, Вонж сказал, презрительно пожимая плечами:
– В Золоторые он долго не продержится… Ясько Кмита, Бартош из Вицбурга, а, по-видимому, и Казко Шецинский, который должен был пойти им на помощь, преодолеют негодяя, и из Дрзденка ему не помогут, хоть взял их сестру, я слышал, себе, – потому что бояться. У них только кучи разбойников и бродяг…
За тем некоторые из более важных начали много и долго говорить о Мазурии, какой был род хозяйственных, суровых людей, но с сильной рукой.
Кто-то вспомнил Владислава Опольского, но против этого сразу поднялись голоса, называя его немцем; у Кажки Шецинского, хоть много было друзей, также не казался созданным для государя, потому что имел то, что и Белый, – великую резкость, и ещё больше непостоянства.
Однако людям он казался лучше, чем тот, однако конкурировать с мазурами не мог. Единогласно остановились на них.
Только сейчас они разделились на разные кучки и группы, спрашивая о Кошице, о той славной привилегии, недоверяя ему, и ища в нём плохое. Уже одно то, что он происходил из краковян, что его вытесали Топоры, а Лелива им светила, делало его подозрительным великопольской шляхте. Кошицкий съезд не только не сягчил неприязнь между двумя половинами Польши, но поднял её до наивысшей силы.
В целом не только Малопольша готовилась к борьбе с Великопольшей, но в той помещики даже на два лагеря распались; потому что от того, кто был на стороне короля, ездил в Краков, гордился какой-нибудь милостью, отступали и считали врагом.
Из тех, кто не были ни чёрными, ни белыми, а стояли в стороне, немного приехало на съезд; некоторые перешли к Наленчам, те, кого больше тянуло к Судзивою, к Грималам, вскоре покинули сарай.
Чем меньше становилось число людей, тем совещание становилось более конфеденциальным, более открытым враждебностью ко двору и его сторонникам. Считали силы, перечисляли тех, кто мог быть на стороне короля и