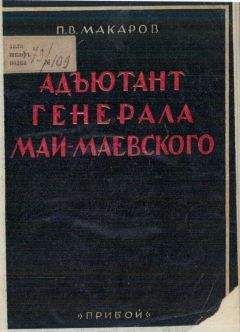Ознакомительная версия.
Красная бездна
Умирая, ты можешь иметь связь с любым живым существом в подлунном мире.
Лама Йонгден
Иуда быстро спешился у палатки командира Виноградова. Потрепал по морде коня. Он был сильно бледен – это было заметно даже в сумерки, в поздний час, когда в лагере дивизии горели костры у юрт и палаток.
Он вспомнил, как впервые, с наклеенными усами, явился сюда, в лагерь. Это было недавно… или очень давно?..
Время. Непостижная уму материя. Тающий на губах снег богов.
Солдаты затаились. Казаки не роптали – молчали. Нынче генерал избил до полусмерти есаула Клима Верховцева. Есаул отлеживался в палатке, стонал – стоны разносились далеко по лагерю. Иуда привязал коня к вбитому в снег колу, раздвинул брезентовые крылья палатки.
– Эй, кто есть?.. – Он старался говорить как можно тише.
– А, капитан Лаврецкий!.. – Из тьмы палатки навстречу Иуде поднялся полковник Виноградов. – Заждались. Как дела во взятой красными Урге?.. Господи, как вы передвигались там?.. Монголы не поняли, что вы – унгерновец?..
– Нет. Не поняли. Я проскакал через заставу беспрепятственно. Меня приняли за своего – кожаная куртка, наган, вместо кепи я напялил картуз, надвинул его на глаза.
– И пароль не пытали?..
– Я прокричал им что-то невнятное по-русски. Нечто воинственное. На заставе – одни монголы. Кажется, пьяные. Мое счастье. Поют, пьют, гуляют. Шутка ли – красная Урга. Торжество Сухэ-батора. Как переменчив мир, полковник. Эти недогадливые большевики не всунули ни одного русского пентюха в охрану города. Мой конь промчался мимо глупых пингвинов на полных парах. Откровенно говоря, я думал, полковник, что мне выстрелят в спину.
– Вам или коню.
– Неважно. – Иуда закрыл за собой полог палатки, подвязал тесемками. – Рубо здесь?
– Я здесь, – раздался низкий голос, почти церковный бас профундо, из глубины палатки. – Не зажигаем света, капитан. Плохо дело. Плохое пространство вокруг. Тяжко дышать. Невыносимо более.
– Где барон? – Иуда опустился на нищую, тощую подстилку. «Вот уже и матрацев в дивизии нет, спят на жалких тряпках», – сцепив зубы, подумал он. Вести армию в Тибет! Унгерн окончательно спятил. Нищие, обтрепанные, голодные… сходящие с ума при виде жареного коровьего?.. – нет, лошадиного мяса… износившиеся, с дырами в сапогах, в просящих каши валенках, с ружьями без патронов, с пулеметами без пулеметных лент… со свечками, что лепят из стащенного в бурятских и монгольских улусах бараньего жира… Жамсаран тоже был нищим, хочет он сказать, идиот?!.. «Он ничего не хочет сказать, Иуда. Он уже ничего не хочет сказать. Он уже все сказал».
– Барон в своей юрте беседует с ламами.
– О чем?
– О своей судьбе, должно быть. Может, они гадают ему, ха-ха, по костям, по внутренностям убитой птицы. – Виноградов хохотнул. Подпоручик Рубо был другом казненного Ружанского. Он не мог простить барону ужасной казни друга. – Нам, господа, гадать уже некогда. Давайте разложим все по полочкам, как все будет.
Иуда облизнул пересохшие губы. На миг перед ним встало хитрое, с залысинами, ушлое, гладкое как яйцо лицо Разумовского – Егора Медведева. Все внезапно выявилось, высветилось перед ним ярко, ослепительно, будто озаренное мучительно-бело-зеленой, как в фотографическом ателье, вспышкой магния. Каждый тянул одеяло на себя. Каждый – прилагая усилия – выкаблучиваясь – истязая себя и других приступами хитрости – жаждой получить немыслимые деньги в мировой заварившейся каше – деньги за предательство, за ужас, за кровь, за нахальство, за подлог, за двуличие, за сдергивание и за надевание, но прежде всего – за пошитие личин и масок – тянул на себя одеяло успеха и выигрыша в опасном заговоре, делая ставку то на темную лошадку, то на светлую, издалека видную в кромешной тьме.
Медведев тянул одеяло на себя. Он играл в игру не с ним – с англичанами! С Биттерманом. С Фэрфаксом. С мистером Рипли. С Крисом Грегори. У англичан водилось больше денег, чем у Унгерна, – а значит, больше, чем у Иуды. Медведев клюнул… ты же помнишь, Иуда, на что он клюнул. Он клюнул на золото Унгерна.
Золото Унгерна! Не миф ли это, опомнись, Иуда!
«Она… Она говорила мне, шептала, что – не миф. Ей… еще Трифон… живой… рассказывал…»
– Давайте. Давайте разложим. – Он обвел зверино светящимися в полутьме глазами сидевших перед ним офицеров. – Начнем мы?
– Да. – Виноградов наклонил крупную седеющую голову.
– Сколько командиров частей настроены против Унгерна и участвуют в заговоре?
– Почти все. Те, кто не хочет его убить, выражают желание бросить его ко всем чертям и двинуться на восток, в Маньчжурию.
– Кто верен ему?
– Бригадир Резухин.
– Когда барон отдал приказ выступать на юг, в Гоби?
– Завтра.
– Вы, капитан… – Подпоручик Валерий Рубо, юный, румяный, несмотря на недоедание, пышущий отвагой и дерзостью, хоть сейчас – на коня и в атаку, бесстрашный бесшабашным бесстрашием молодости, прожег Иуду глазами. – Вы… убьете… его?..
Иуда пытался в темноте поймать взгляд горящих глаз подпоручика. Удалось: поймал. Они глядели глаза в глаза. В палатке было только слышно хриплое, будто храпели кони, дыхание троих молчащих мужчин.
– А вы хотите, чтобы он убил вас? – Звон молчания. Тяжело дышат. Взгляды во тьме сшибаются, как копья, как штыки в рукопашной. – Чтобы он убил ваших друзей? Женщин? Ни в чем не повинных простых людей, бурятских крестьян из улусов, китайцев, монголов? Чтобы он повесил вас головой вниз на Китайских воротах?!
– Нет. Нет, не хочу.
Подпоручик Рубо не опустил голову. Глаза мужчин, как глаза зверей, светились во мраке. За пологом палатки стояла, как черная вода в проруби, тяжелая ночная тишина.
Ганлин играет
Я хочу узнать, что суждено.
Я не хочу кануть камнем на дно.
На дно времен, что я не проживу.
На дно жизней, что я не увижу.
На дно глаз, что я не поцелую, дрожа от любви; что я не выколю ножом, дрожа от ненависти.
Я хочу узнать, что ждет меня и мою Дивизию. Мою Армию. Мою Войну.
Мою собственную Священную Войну, что я веду против восставшего на Священное Мирового Зла.
Я знаю, что Священное – вечно. Это азбука бытия.
Но я хочу знать, хватит ли у меня сил. Исполню ли я завет. Подниму ли непосильный груз.
Человек силен. Но Бог сильнее его.
А судьба сильнее человека и Бога.
Судьба. Моя судьба. Я люблю тебя. Я ненавижу тебя. Я хочу знать меру моей вины и твоего прощения.
Они сказали Резухину: бери командование! Барон – уже полутруп. Он свое отыграл. Не играй в преданность! «Вы предлагаете мне – предать?» – процедил он, поочередно взглядывая в глаза им – капитану Лаврецкому, полковнику Виноградову, подпоручику Рубо, артиллеристу Маштакову. Ишь ты, чистый, пожал плечами Рубо. Не хочет мараться. «Не мараться не хочет, а искренне предан нашему чудовищу», – отчего-то с горечью и болью, с неожиданной завистью подумал Иуда. Это мысль пронеслась в голове слепящей двузубой молнией – и умерла во тьме. Люди сидят на конях. Темная, теплая февральская ночь. Снег проседает. Ноги коней по бабки вязнут в снегу, в подламывающемся насте. Звезды предательски мигают, весело, полоумно валятся с зенита – вниз. «Капитан Безродный, арестуйте изменников!» – дурным голосом, надсадно кричит Резухин, шаря безумным взглядом по строю, по лицам молчащих людей, оборачиваясь к Безродному; у того дрожат руки, он… «Ты тоже с ними?!» – умалишенно вопит Резухин, и из передних рядов – первый выстрел. «А-а-а-ах, твою ж мать, ногу прострелили…» Резухин, истекая кровью, поднимаясь с подмерзлого сырого снега, кричит, и голос его срывается, как у соловья-тенора на императорской сцене в былые, уже канувшие в вечность времена: «Ко мне-е-е, моя верная сотня!» Люди расступаются перед ним, бегущим к ним, истекающим кровью. Снег в крови. Красная кровь – на белом снегу. Красный иероглиф – на белом знамени Чингис-хана. «Китайцы, спасите!» Китайцы отступают. «Татары, где вы!» Татары отворачиваются. «Вы все в заговоре!» – истерически орет Резухин, и по его щекам текут слезы, и лицо его – страшная маска, и все в смятении и смущении отворачиваются от нее.
А это ж кто там такой?! А это ж казак наш, ух ты, явился не запылился, Николка Рыбаков собственной персоной! Идет-ковыляет! Проталкивается ближе, расталкивает народ локтями. «Ах ты, сердешный, болезный… Ах ты, наш бригадир родимый… Ах ты, ноженьку ему прострелили, звери-нехристи… Ай, пустите, люди добрые, пустите…» Все ближе, ближе, давай, давай, подходи, казак, может, ты добрый вправду, лекарь либо знахарь, может быть, кровь заговоришь, спасешь. Ух, близко как ты! Подле лежащего на спине бригадира. Наклоняешься. В лицо ему всматриваешься, будто бы самоцвет на просвет разглядываешь. От боли он корчится. Ранен. А ты – от боли не корчился, когда тебя – наотмашь – он в строю бил?!
Никола Рыбаков стоял с минуту, глядел на распростертого на снегу Резухина, на кровь, льющуюся на снег из раны. Перекосилось лицо. Борода сбилась набок. Выхватил саблю Никола из ножен. Ахнули люди одновременно с замахом сверкающей сабли, выдохнули – с опусканьем ее. Х-хак! Голова Резухина покатилась прочь от туловища по скользкому, переливчатому, как перламутр, бугристому насту. И темная, темная, как вишневая староверская наливка, густая кровь хлынула, уже не стесняясь, нагло, нахально – из разрубленной шеи – людям да коням под ноги, клокоча, пузырясь.
Ознакомительная версия.