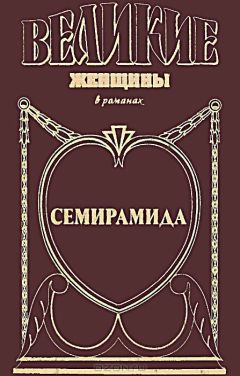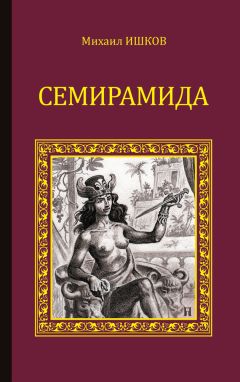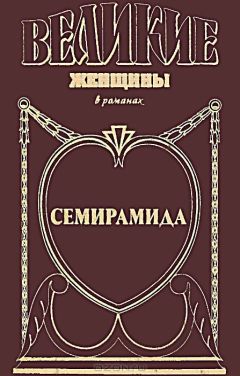— Неужели дело зашло так далеко? — не удержался от вопроса Сарсехим.
Ему ответил Ардис молча, широко раскрытыми глазами взиравший на царствующую особу. Шами была ослепительна хороша, одета в лучшее свое платье, приукрасилась венцом с крупными изумрудами.
— Заткнись! Не пытайся знать лишнее.
Шами поддержала его.
— Он прав, Сарсехим…
Женщина не договорила, торопливо вышла из комнаты, там дала волю рыданиям.
Поселившись в новом доме Нана — силим повела себя так, как ее мать, которую когда-то в сопровождении Сарсехима отправили в далекий Дамаск. Девочка была дерзка, себе на уме, пыталась строить гадости заметно обрюзгшему воспитателю. Ни разу не всплакнула, замкнулась и совсем как взрослая заботилась о двухгодовалом братишке.
За эту заботу Сарсехим был готов ей все простить, и отношения скоро наладились, особенно после того, как евнух взял в привычку рассказывать детям сказки. Оказалось, что прежний их дядька Ишпакай вволю избаловал Нану — силим волшебными историями, так что Сарсехиму пришлось потрудиться.
Это был самый сладостный труд, которым ему пришлось заниматься в жизни. Было радостно видеть горящие глазенки Наида, поджатые губки Наны — в самый напряженный момент она невольно разжимала их, раскрывала рот. Это было так мило с ее стороны. Сарсехим, столько лет мечтавший о возможности порадоваться жизни, возблагодарил богов за то, что они все-таки могут быть милосердными. Они одарили его главным, ради чего, как оказалось, стоит дышать, пить вино, есть жареное на угольях мясо и прислушиваться к голосам. Боги нежданно — негаданно произвели его в дедушки и наградили Наной — силим и маленьким Наидом.
Однажды, когда до заметно повзрослевшей, лишенной красоты матери девочки, дошли слухи о победах ассирийской царицы на востоке, о взятии крепости Бактрия и выходе ее войска к побережью Каспийского моря, она поинтересовалась.
— Если великая царица посетит Вавилон, ты пустишь меня на площадь, чтобы я хотя бы одним глазком взглянула на нее? Ты можешь сопровождать меня.
— Нет, родная. Меня многие знают.
— Мне так хочется, — призналась тринадцатилетняя Нанá. — Я уже забыла, как она выглядит.
Вечером, уложив детей и закончив рассказ о приключениях Син — абада — морехода, Сарсехим уловил тайный зов, окликнувший его и принудивший взять в руки палочку для выдавливания письменных знаков. Ткнул несколько раз в мягкую глину, довел фразу до конца и прочитал написанное: «Был светлый день месяца кислиму, когда меня, во славу Мардука, отправили с караваном в благодатный Дамаск».
Написал и задумался — если польстишь себе и опишешь все, как было, как в таком случае сохранить клятву, данную в Ашшуре?
Жизнь Шаммурамат не назовешь сладкой. Все побывавшие в Калахе, утверждали, ревность сводит царя с ума. Говорят, она вьет веревки из второго мужа, но, не смея перечить жене, тот грозит казнью любому, кто только посмеет взглянуть на Шаммурамат. Такое случается со всяким, кто сел не в свою повозку и кому застит глаза чужое величие. В этом не было бы ничего страшного, если бы в силу скудости ума исступление не доводило Шамши до богомерзких поступков. Например, Шамши запретил царице видеться с Партатуи-Бурей, а для того, чтобы запрет вошел в силу, он женил его на служанке жены Габрии и отправил на границу.
Единственной радостью для царицы был сын, будущий наследник трона Адад-Нерари, которому еще в детстве пророчили судьбу великого воителя, такого, например каким были двое предшественников малыша, которых тоже звали Адад-Нерари.
В полной мере Сарсехим оценил предусмотрительность царицы спустя пять лет после воцарения Шамши-Адада, когда полководец Бау — ах — иддин поднял мятеж и отправил вавилонского царя к судьбе. Сказывают и пересказывают, будто когда царь и полководец остались одни, Бау — ах — иддин просто — напросто ударил безобидного старика кулаком по голове. Такого рода внушение он проделывал не раз, но теперь ему не повезло — старик скатился с царского места, упал на плиты, устилавшие пол. Дыхание оставило его. Трудно сказать, что побудило Бау совершить этот безумный шаг. Скорее всего, до злодейства его довело неудовлетворенное тщеславия и жажда власти, а может, упреки Гулы, овладевшей его душой. Каждый год царствования сестры терзал ее ужаснее всякой телесной пытки.
Расправившись со стариком, Бау и Гула попытались представить дело так, будто Закир задумал отделиться от Ассирии, и только их бдительность помешала предательству. В покаянном письме Бау утверждал, что далее терпеть измену ему не позволяла совесть, а также любовь к великому царю, ведь он его верный раб и готов выполнить любое его повеление. Бау клялся, что приложит все силы, чтобы удержать жителей Вавилона от предполагаемого бунта.
Все уверения узурпатора оказались тщетны. Шами лично возглавила поход против мятежников, ждать от нее пощады ни Бау, ни Гуле не приходилось. Нового царя скрутили свои же придворные, Гуле удалось скрыться. Поиски ведьмы оказались напрасными, однако все, кто был более — менее причастен к царскому дому, были уверены — она спряталась в городе. Стоит ей покинуть Вавилон, ее сразу схватят, ведь такой колоритной женщине трудно скрыть свои уродства.
Как только ассирийское войско вошло в священный город, Сарсехим и Ардис, лично с сыновьями и внуками охранявший дом, перевели дух. Стоило Гуле прознать, где скрываются дети Шаммурамат, и исход мятежа мог оказаться иным.
Бау судили и с помпой, под пение флейт и бой барабанов водрузили на кол. Что касается Гулы, Шами отомстила сестре с истинно царским размахом. Требование Ардиса не останавливать поиски ведьмы, она отвергла.
— Пустое, Ардис.
Год царица провела в родном городе, и за это время Вавилон украсился новой системой канализации, ирригационными каналами, а также необычными садами{23}, дававшими густую тень и создававшими прохладу в самый жаркий полдень. Деревья посадили на насыпных, обращенных друг к другу террасах. На самой высокой — финиковые пальмы, ведь они более других растений любят солнце, ниже плодоносили яблони, груши, фисташковые деревья, еще ниже, на уровне земли, был разбит пруд, где жили священные рыбы. Секрет был в том, что вода, подаваемая на верхний уровень, увлажняя воздух и навевая прохладу, водопадами сбегала вниз.
Это чудо она воздвигла в честь своих детей, но об этом знали только Ардис и Сарсехим.
Не менее щедрый подарок она сделала и своей сестре.
На площади перед царским дворцом была установлена громадная, золотая чаша[30].
Намек был слишком прозрачен, чтобы не восхититься местью, с помощью которой царица Ассирии расправилась с Гулой. Золотая чаша Шаммурамат, вознесенная на пьедестал и напоминавшая очертаниями то, что составляло ее женскую тайну, ее радость и горе, прославилась на весь свет и доставила царице много ликований благодарных вавилонян.
Кто теперь посмел бы назвать скифянку «дырявой чашкой»! Такое искусное сооружение могло укротить любого смертного или, наоборот, довести до умопомешательства, не принуждая других ни к поиску, ни к расправе над той, кто сжился с завистью и злобой.
Пусть Гула любуется на золотую чашу и сама казнит себя.
Перед отъездом из Вавилона царица тайком взглянула на детей, которых привел в чудесные сады на прогулку один из внуков Ардиса. В тот же день о чем-то догадавшаяся Нана — силим попросила наставника рассказать новую сказку.
— Какую, родная? — мимоходом поинтересовался евнух.
— О дочери богини, которую спасли голуби. О щедрой Иштар, которая кормила сироту своим молоком, пока добрый пастух не нашел ее в пустыне и не вырастил как собственную дочь.
Сарсехим схватился за голову.
— Кто наплел тебе подобную чушь?!
— Дядя Ардис. Он сказал, что только краем уха слыхал, как ты рассказывал эту сказку его внукам. Почему ты всегда скрываешь от нас самое интересное?
Сарсехим, справившись с замешательством, пообещал поведать историю, которая случилась давным — давно, в волшебной стране Сирии.
Проводив девочку, он проклял себя за беспечность, за низкое желание запечатлеть свое имя на глине, наподобие древнего заклинателя Син — лике — уннинни, рассказавшего миру о похождениях Гильгамеша. Это был повод крепко задуматься о смысле и цели написания письменных знаков{24}. Тому же Син — лике никогда бы в голову не пришло выдавить свое имя на священных табличках. Это потомки, оценив сделанное заклинателем, запечатлели его имя в летописях.
Если времена изменились, если человеческий эгоизм, соединенный с жаждой наживы, теряет последние остатки человечности, все равно подло писать правду, зная, что она может принести горе его воспитанникам. Внутренний гений охотно согласился с ним — нет смысла оставлять следы на мягкой глине, если в них, хотя бы каплей или намеком, будет посеяно зло. Подлинная история Шаммурамат была под запретом, поэтому он рассказал детям другую сказку.