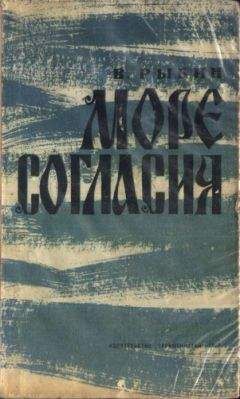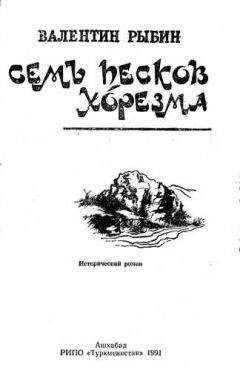Булат-хан сухо засмеялся, ответил:
— Мука моя, а рис пальван из Кара-Су привез. У него связи с персами налажены. Жена-то его, говорят, дочь, Гамза-хана ноукентского. Наверное, хан дал рис, чтобы хороший той справили.
Кият насупился:
— Смеешься, Булат, или правду говоришь — не пойму что-то?
— Я и сам не понимаю, — признался Булат-хан. — Жену он из аламана привез, а рис — не знаю. Известно только, что в Кара-Су за рисом ездил. И не только рис, но и киржим новый пригнал. Вон, посмотри...
Кият оглянулся. С дороги была видна лодка с убранным парусом: она стояла на отмели в золотых бликах восходящего солнца.
— Черные дела тут у вас творятся, — со вздохом выговорил Кият. — Ну, ничего, время всему суд наведет...— И, огрев камчой лошадь, он свернул с дороги и поскакал к своему кочевью. Булат направился к себе.
У кибитки Кеймира разгоралось веселье. К пальвану на той шли бедняки со всех концов острова: солеломщики, пшеновары (Пшеноварами называли тех, кто вытапливал в котлах нефтакыл (озокерит). В котлы засыпался озокеритовый песок желтого цвета, напоминающий пшено), добытчики, нефти, рыбаки. Друзья Кеймира — Алладурды-Смельчак, Меджид, Курбан приглашали всех на той, приговаривая, что Кеймир-пальван ныне богат и может накормить-напоить всех островитян. И люди шли...
Уже дымились котлы на берегу за кибитками, пахло жареным мясом. Уже съезжались на породистых скакунах и шли пальваны. И сачаки были разостланы возле кибиток на чистом зернистом песке. Зазвенел дутар, и понеслась над островом песня, прославляющая молодого пальвана Кеймира. Играл на дутаре и пел Меджид — музыкант прирожденный.
В полдень начались скачки и борьба «гореш». На ровном поле, у возвышенности Чохрак, состязались джигиты. Пыль вилась из-под копыт. У кибиток на коврах, держа друг друга за кушаки, боролись пальваны. Веселье, бравые возгласы, смех и подзадоривания слышались до самого вечера. А в кибитке, улыбаясь от счастья и прижимая новорожденного к груди, лежала в постели Лейла. Возле нее хлопотали Бостан-эдже и соседки. И без того красивое лицо Лейлы, ныне подернутое нежностью материнства, еще более похорошело. Ее большие черные глава вызывали у матери пальвана и соседских женщин столько доброты, что они не могли отойти от постели Лейлы: ласково угощали ее и без конца подавали всевозможные советы, как обращаться с новорожденным.
Ночью, когда веселье утихло, чтобы вспыхнуть наутро с новой силой, Кеймир сам сидел около жены и рассказывал ей подробности тоя: какие песни пел Меджид, кто из пальванов вышел победителем, кто победил в скачках. Рассказывая, он то и дело приподнимал одеяло и поглядывал на малыша. Он крепко спал, причмокивая губами, а розовый сосок матери лежал у него на щечке. Кеймир улыбался и отворачивался, чтобы спрятать слезы счастья...
А на подворье Кията занималась иная жизнь. Утром Тувак, узнав, что никто на остров не нападал и что стрельба была в честь первенца Кеймира, повздыхала немного, вспоминая о прошлом, и вышла во двор.
Кейик-эдже встретила ее высокомерной улыбкой:
— Долго валяешься, гелин. У нас до солнца встают, запомни это. А у тебя все еще глаза от сна опухшие. Или Кият-ага спать не давал? Не верится что-то... — Кейик засмеялась издевательски, заглядывая в глаза Тувак. — А может, по Кеймир-пальвану вздыхаешь? Он достоин этого. Зря променяла его на старика седобородого!
— Вах, отстаньте, Кейик-эдже, зачем говорите такое? — слабо защищалась Тувак.
Старуха еще раз смерила ее взглядом, оглянулась по сторонам и, ткнув кулаком в бок, прошипела с негодованием:
— У, ишачка поганая... Чтоб у тебя хвост вырос! Иди замешивай тесто, чего стоишь?..
Тувак закусила губу, сжала кулаки, готовая кинуться на Кейик-эдже, но почувствовала себя беспомощной и заплакала. Две старые женщины — прислужницы Кейик-эдже — ехидно засмеялись.
Молодая ханша кое-как дождалась прихода Кията, и, едва он переступил порог юрты, начала жаловаться. Рассказывала и плакала, уткнувшись в плечо мужа. И он не стерпел: выругался, сверкнул злобно глазами и направился к Кейик.
Старшая жена встретила его во дворе, Улыбнулась ласково — поняла, с чем пришел муж. А он брови сдвинул, процедил сквозь зубы:
— Прогоню, шайтанье племя... Свет белый не увидишь... — Не сказав больше ни слова, повернулся и ушел. И уже в кибитке, сидя с Тувак, слышал, как причитала старуха:
— Я с ней, можно сказать, как с любимой дочерью... Ласковыми словами кормлю да лепешками сладкими, а она, неблагодарная...
Кият сердито усмехался, говорил Тувак:
— Старая ведьма, еще не знает, за что я ее поругал, а сразу о тебе речь заводит. Русские говорят: на воре шапка горит... Ну, ничего, — пообещал он, — если не присмиреет, то прогоню ее назад в Гасан-Кули. Пусть с сыновьями там живет. — А про себя подумал: «Побыстрее надо их туда отправить: пусть ставят кочевье да ловят рыбу. Не отдавать же Атрек врагам». — А с тобой,
Тувак-джан. — проговорил он вслух,— как с делами управимся, колодцы за собой закрепим, нефть начнем сбывать купцам русским, — уедем отсюда на Дарджу. Места там, джаным, красивее не сыщешь. Горы с трех сторон и зеленая трава по пояс. Поставим там кибитки, своих всех вокруг себя соберем: Мамед-Таган-кази, Махтум-Кули-хана... Устроим свое государство — вольную Туркмению, независимую ни от кого. Никого бояться не будем: ни Хиву, ни Персию...
— Ах мой хан, какие хорошие слова говоришь, — улыбаясь, жалась к мужу Тувак. А он гладил ее по голове и продолжал вдохновенно:
— Да, да, Тувак-джан. Если русский ак-патша поможет мне, я верну Туркмении прежние земли. Я установлю прежние границы и людей всех объединю в единое племя... Ты-то ведь не знаешь, какой раньше была Туркмения.
— Расскажи, мой хан, я хочу знать, — льстилась Тувак...
И он, окончательно растроганный ее ласковыми просьбами, принялся рассказывать об огузах и хане Огузе, от которого пошли туркменские племена.
— Двадцать четыре рода было у туркмен, — говорил Кият. — Шесть сыновей у Огуз-хана и у каждого из шести тоже по четыре сына — всего двадцать четыре. Я бы мог тебе перечислить их, но все равно не запомнишь. Лучше узнай, что рассказывал мой дед, а моему деду — его дед. Туркмены жили на земле между Сырдарьей и Джейхуном. Имели свой большой город Джент. Жили спокойно, пока не пришли монголы. Старший сын Чингиз-хана, Джучи, приступом взял Джент, потом захватил еще один туркменский город, Янгикент, собрал десятитысяч-
ное войско и повел его на Хорезм. Но в пути туркмены налетели на монголов, побили их и ушли — кто куда смог. Обосновались они в Мерве и Амуйе, в Дуруне и на Узбое, создали свои маленькие ханства и с тех пор так живут. Вместе объединиться никак не могут, а поодиночке бьют их — го хивинцы, то персы... Разбрелись по всему свету потомки Огуз-хана. Где их только нет. Живут в Персии, живут в Багдаде, на Кавказе, на Мангышлаке. Все думают об одном — как бы укрепиться. Вот в мы, иомуды, о том же печемся. Переедем с тобой, джаным, на Дарджу, оттуда людей своих пошлем в другие кочевья, чтобы объединялись вокруг нас.
— Но разве они послушаются! — усомнилась Тувак.
— Послушаются, ханым... Люди голодом живут, только и думают о куске чурека. Если сумеем всех накормить да одеть — все нам служить будут.
— А как их накормишь, хан? — удивилась Тувак. — Разве у тебя найдется столько хлеба? Вчера, когда я замешивала тесто на чуреки, Кейик-эдже сказала, что остался лишь один мешок муки — больше нет. Скоро мы сами голодными будем, а ты думаешь о других.
— Тувак-джан, у тебя, оказывается, голова свежая,— засмеялся Кият. — Умно думаешь. Только не додумалась до главного. И мы с тобой, и все остальные зависим сейчас от того, какому джину поклонимся. Я выбрал себе джина по имени урусы. Если они помогут, то и мы сыты будем, и весь народ вокруг нас ободрится...
Кият беседовал с женой до тех пор, пока не пришел Таган-Нияз. Они выпили чаю и поехали на соляное озеро.
Сейис и Муратов высадились возле устья Атрека ночью. Баркас с гребцами сразу отчалил и скрылся в черной морской коловерти. Муратов первым вылез на высокий берег реки и оглянулся на море. Далеко в ревущих волнах едва маячил огонек шкоута. Жуть охватила толмача. «Вернемся ли назад?» — с отчаянием подумал он и нахлобучил до бровей косматый туркменский тельпек. Сейис, выбравшись на бугристую возвышенность реки, тронул Муратова за плечо и молча пошел, постукивая впереди себя длинной суковатой палкой.
Оба берега Атрека шуршали зарослями. Ветер с моря волнами накатывался на камышовые стены. Они мягко поддавались натиску ветра и, вновь распрямляясь, издавали легкий шорох. В темноте едва-едва были заметны откосы реки и массивы зарослей, и совсем не видно было тропинки. Сейис вел на ощупь, но так уверенно и быстро, как будто тем лишь и занимался, что водил Атреком приезжих в край гокленов.