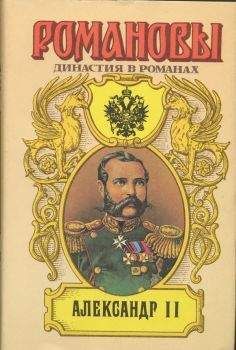– И всё-таки я никак не могу себя представить женою Афанасия.
– И представлять не надо – надо стать. Афанасий едет на войну. Он хочет перед отъездом получить твоё слово. Поверь мне, получив твоё слово, он будет героем и, если Бог даст, целым и невредимым вернётся домой, ты дашь ему то счастье, какого он вполне заслуживает.
– Простите меня, дядя, но я не могу дать такое слово.
– Почему?.. Что он? Урод?.. Обезьяна какая-то?..
– Нет, конечно, не урод и не обезьяна… «Красавчик» – с детства это слышу. А всё-таки – не могу.
– Почему?.. Ну хорошо… Я понимаю. Ты умная, Вера… Мой Афанасий умом и талантами не блещет, он не в меня, а в мать пошёл… Но он такая прямота, такая честность, такой рубаха-парень… Как он будет любить тебя и холить…
– Дядя… Всё равно я не могу полюбить его.
– Ещё раз спрошу – почему?
– Вы помните, дядя… Петергоф и соревнование выездами.
– А… Так, так, так… Белый пудель, – совсем по-кошачьи фыркнул Порфирий. – Ф-ф-уу!.. Какая глупость! Но, милая моя, ты девушка, тебе девятнадцать лет, и тебе рано это знать. Но это всегда так бывает. Афанасию двадцать три года. Он сангвиник, он молодчик, что же ему?.. Фу-ух, какие ты глупости говоришь, хоть и умная девушка… Нет, ты не думай об этом… Не думай и не думай… Посоветуйся с нашей милой графинюшкой. Ей-Богу, не потому что отец, а по совести – такого жениха не найти… И пожалей его.
Порфирий подошёл к сидевшей в кресле Вере и взял её за плечи. Вера вывернулась из его рук и встала.
– Нет, дядя, благодарю за честь… Прошу не обижаться… Но… просто – не могу…
– Да что, у тебя есть кто-нибудь на примете?..
– Никого у меня нет – вы сами это отлично знаете. Кто у нас бывает?.. Где я бываю?.. Но за Афанасия я не могу выйти… Я просто не люблю его.
– Стерпится – слюбится.
– Таким путём ни ему счастья не дам, ни себе не получу.
– Что же сказать ему?.. Ты хотя бы обнадёжила его…
– Дядя… В Малороссии, кажется, арбуз или тыкву в таком случае посылают.
– Ты ещё можешь шутить!.. Ты отчаяние вместо надежды даёшь человеку, идущему на войну.
– Что же я могу поделать? Я чувствую – что не люблю и никогда не полюблю Афанасия, – со слезами в голосе выкрикнула Вера. – Я никого никогда не полюблю. Я останусь старою девою. Но только умоляю – не мучайте, не мучайте меня. Я никому не мешаю. Я пойду… в народ. Но я не могу, не могу и не могу!..
Вера выбежала из будуара…
Порфирий постоял несколько мгновений в комнате, ожидая, не вернётся ли Вера.
– Странная девушка, –сказал он. – С идеями!.. – И пошёл к Афанасию.
Он застал сына в кабинете в том же кресле, в той же позе.
– Ну что? – спросил Афанасий.
– Погоди, Афанасий… Нет, рано ещё. Она совсем ещё девочка. Ей в куклы играть, а не замуж выходить. Не созрела ещё. Переходный, самый капризный возраст. Помнишь, как в Петергофе с этим дурацким матросом…
– Отказала? – вставая, спросил Афанасий и побледнел.
– Н-нет… Она не отказала… Но, мой милый Афанасий, – надо нам раньше вернуться с войны, а тогда уже думать о свадьбе.
– Хорошо, папа… Я вернусь с войны героем или вовсе не вернусь…
Война!.. Война!.. Она висела в воздухе! Казалось, это страшное слово звучало в великопостном перезвоне колоколов, слышалось в чирикании воробьёв.
В Пассаже, на Невском, в галерее восковых фигур были выставлены турецкие зверства: были изображены из воска болгары, привязанные к деревьям, под ними горели костры. Фольговые огоньки костров блистали, восковые ноги болгар обуглены, на лицах – нестерпимая мука. Зрители стояли у столбиков с малиновыми шнурами, вздыхали и говорили шёпотом. У двери висела кружка «для добровольцев в Сербии». Сыпались в неё медные пятаки и трёшницы, серебряные двугривенные и пятиалтынные.
На Николаевском вокзале ежедневно кого-то провожали в действующую армию.
Порфирий и Афанасий уехали. Генерал благословил сына и внука иконами.
– Вернётесь, Бог даст, – сказал он, – без всякой войны. Государь знает: on ne saurait jamais entierement aneantir les resultats de la guerre[152]. Сто раз подумает. Своей империей рискует… Он это понимает.
Вера одна осталась при дедушке.
Газеты, «общественное мнение» требовали войны.
Всё это Вера переживала болезненно. Она осторожно расспрашивала деда о тех войнах, в которых тот участвовал. Она с трепетом слушала его рассказы о тысячах убитых, о раненых, умирающих на поле без помощи, о голоде и жажде, о героизме русского офицера и солдата.
Она думала: «Тут не один случайно убившийся матрос – несчастный случай, воля Божия, тут предумышленное убийство, массовое истребление ближних».
Было страшно. Ночью вдруг проснётся Вера и долго лежит, устремив глаза в угол, где перед образом Казанской Божией Матери в синем стекле мигает лампада, затепленная горничной. Сама Вера уже не возжигала лампады. Крошечное семя сомнения, неверия, материализма, посеянное в её сердце князем Болотневым и теми книгами, которые она читала, разрасталось громадным деревом.
Вера смотрела в сумрак спальни на игру теней на золотом окладе и Лике Пречистой и думала:
«Война недопустима с христианской точки зрения, недопустима и с точки зрения социализма, зовущего к общему миру, свободе, равенству и братству».
Вера читала Достоевского и слышала, как про него говорили: «Пророк… провидец… знаток человеческой души… сам много перестрадал и знает до дна душу русского человека». Вера знала биографию Достоевского, слышала о деле петрашевцев, о том, как замешанный в этом деле Достоевский был приговорён к смертной казни и прощён уже на эшафоте. Знала, что он отбывал каторжные работы в Сибири. Она читала «Записки из мёртвого дома» и, читая, сознавала, что человек, так много переживший и повидавший, может знать больше других людей.
Вере казалось, что Достоевский должен непременно осудить войну, что он должен быть единомышленником тех студентов и курсисток, которые митинговали на Казанской площади, что он, так много сам страдавший, должен всею душою понять, что такое война, и что он укрепит всё то, что продумала Вера в долгие молодые бессонные ночи, когда так мучительны думы и так хочется на кого-нибудь опереться, кем-нибудь подтвердить продуманное и выношенное.
Но перед Верой встал сейчас же вопрос: как пойдёт она к совершенно незнакомому, «не представленному ей» человеку? Как пойдёт к чужому мужчине – она, девушка? После долгих размышлений она пришла к выводу, что писатель, которого она столько раз читала и перечитывала, стал для неё как бы знакомым, что она всё это объяснит, что он человек немолодой, поймёт и не осудит её. Вера думала: «А если бы я была курсисткой? Перовская, наверное, пошла бы». Колебания и сомнения продолжались долго, наконец Вера решилась.
Было то предвесеннее время в Петербурге, когда основной лёд на Неве уже прошёл, снег лежал только по окраинам, где его не сгребали и не вывозили, а в центре гремят железными шинами колёса дрожек по обнажённой мостовой, звенят ручьи стекающей по трубам в кадки воды с крыш, уже местами обнажённых, без снега, когда у водопойных колод особенно ароматно пахнет растоптанным лошадьми сеном и громко воркуют голуби, а извозчичьи лошади стоят в блестящих завитках ещё зимней шерсти и мотают головами с навешенными на них торбами, разбрасывая овёс, словно чтобы нарочно дать подкормиться голубям и звонко кричащим воробьям; когда на деревьях садов и скверов уже нет инея, но ветки набухли внутренними соками и нет-нет проглянет сквозь лёгкие тучи клочок голубого неба и ярко заблестит на мокрой мостовой солнце – и станет тогда всё по-весеннему радостно.
Вера шла, бойко постукивая каблуками, направляясь по Владимирскому проспекту в Кузнечный переулок – к Достоевскому. Она поднялась на четвёртый этаж скучного и тёмного доходного дома[153] и позвонила в колокольчик на пружине.
За дверью послышался тяжёлый кашель, звякнул откладываемый крюк, и дверь медленно открылась. Отворил её сам писатель.
– Простите, Фёдор Михайлович, – сказала робко Вера, – могу я попросить у вас несколько минут времени?
– По делам редакции? – стоя в дверях, сказал Достоевский.
– Нет… По личному, очень важному делу.
Достоевский внимательно из сумрака прихожей вгляделся в смущённое, порозовевшее лицо Веры, окинул взглядом её скромный, но дорогой костюм, попятился назад и приглашая рукою войти, сказал:
– Тогда пожалуйте ко мне, в кабинет.
Несмотря на то что день был светлый, солнечный, в кабинете Фёдора Михайловича было сумрачно. Единственное окно с двойными рамами, выходившее на тенистый петербургский двор, было мутно и запыленно. Между рамами, в вате с пёстрыми шерстинками, были вдвинуты стаканчики с ржавой водой. Большой стол стоял боком к окну. Он был завален рукописями и длинными полосами корректурных гранок. На полу лежали перевязанные верёвками высокие стопки книг «Дневника писателя». Против стола был книжный шкаф, два кресла и широкий диван, обитый потёртым коричневым репсом[154]. На круглом столе подле дивана – графин с водой и два гранёных стакана. Керосиновая лампа под зелёным картонным абажуром стояла на письменном столе. Всё это мелькнуло, как в тумане, перед глазами смущённой Веры, но запомнилось навсегда.