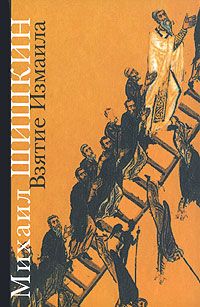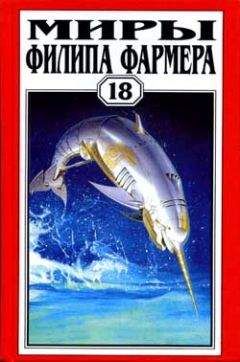Ознакомительная версия.
Хожу между плотными рядами стандартных плит. Могилки все — по размерам
— детские. Взрослый сюда и не поместится. Людей-то там и нет — одни урны.
Никогда не забуду, когда после кремации заехал за урной — сунул пластмассовую баночку в полиэтиленовый пакет, положил рядом на переднее сиденье машины, поехал. Так странно было, что вот в этом пакете «Интурист» с веселыми матрешками — мой сын.
И вот тот снежный сентябрьский день — снег сыплет, сухой, мерзлый, мелкий, а я хожу по его сектору и все никак не могу найти. Причем много плит повалено. Я еще подумал сначала, что, может, только привезли и теперь будут устанавливать. Потом подумал, что и Олежкина плита повалена — так и оказалось. Лежит под тонким снегом, как под простынкой.
Попытался сам поднять, но ничего не получилось, только отшиб себе палец
— потом долго сходил почерневший ноготь. Пошел в правление, или как там называется их контора. Нашел мужиков, сказал, что к чему. Они качают головами, удивляются:
— Кто ж это? Кому нужно? Вот бляди!
Теперь я уже не сомневался, что сами и повалили, чтобы подзаработать. Сунул им деньги. Нехотя, потягиваясь и почесываясь, мужики вышли в снег. Когда приехал утром, кладбище еще лежало черным, а теперь все побелело.
Пришли к могиле. Я стоял и смотрел, как лихо они шлепнули ведро раствора, как ляпнули в серую кашу плиту. Оказалось, что разбилась фотография. Они сковырнули остатки керамики.
— Что с фоткой-то делать, командир?
Я сказал:
— Ничего, оставьте как есть.
Пусть будет пустой овал. Я Олежкино лицо и так помню. И Света тоже. А кому еще нужна там его фотография?
Вспоминаешь, Франческа, наши воскресные утра?
Никуда не нужно было вставать. Но, правда, и выспаться не давали колокола за окном. В шесть утра то девушка-звонарь, то какой-то бородач, наверно, ее дед, вылитый Лев Толстой, только в дутой лыжной куртке алого света — она светилась в утренних сумерках, а часто и оба на пару начинали дружно и задорно трезвонить. Здесь, в стране Цвингли и Кальвина, звонят совсем по-другому: умеренно, воспитанно, вежливо. А тот наш Толстой, помнишь, вызванивал часами на своей дюжине колоколов целые симфонии, с жаром, азартно, расхристанно. Спать было, конечно, невозможно, несмотря ни на какие подушки, прижатые к уху, — начинали звенеть и стекла, и стены, будто сам находишься внутри большого колокола, язык которого беглец из Астапова раскачивал веревкой, привязанной к ноге.
Я приносил тебе в кровать кофе. Помнишь этот полудетский диванчик, на котором поместиться можно было только обнявшись, а переворачиваться лишь одновременно?
Наш сосед Матвей Андреевич по воскресеньям всегда куда-то уезжал на целый день, и квартира принадлежала нам, можно было ходить хоть голым, на что никто из нас не отваживался — к утру комнаты так вымораживало, что мы включали все горелки на плите и натягивали на себя и свитеры, и шерстяные носки, чтобы хоть как-то согреться.
Однажды я разбирал шкаф, тот самый многоуважаемый шкап, что перегородил коридор у дверей на кухню, — нам некуда было класть наши вещи, и вот я решил посмотреть, что там, и выбросить старый хлам, чтобы освободить для тебя пару полок. Один из выдвижных ящиков был забит какими-то квитанциями, сколотыми проржавевшими скрепками, поздравительными открытками к давно отмененным праздникам, старыми фотографиями, моими школьными грамотами, еще Бог весть чем. Ящик застрял, я неловко его дернул, и все высыпалось на пол. Ты вышла на шум. Стала копаться в бумагах, помогать мне собирать их в кучу.
— Кто это? — спросила ты и протянула потемневшую, будто чем-то присыпанную фотографию. На ней, сквозь присыпку времени, проступала девочка в украинском костюме с поднятыми руками — только что закончила танец.
— Моя мама.
Я тогда зачем-то выбросил все эти старые фотографии и бумаги. А может, и правильно сделал, что выбросил. Не знаю.
Даже не помню, Франческа, что я тебе рассказывал о моей маме.
Она взяла меня в свою школу, где преподавала, в 59-ю в Староконюшенном, чем, наверно, облегчила свою жизнь и осложнила мою.
Вот сцена: актовый зал с портретами царской фамилии — в нашем здании бывшей Медведниковской гимназии часто снимали фильмы, и портреты висели в качестве приготовленной для очередных съемок декорации — большая перемена, малышня шебаршится под ногами, а старшеклассники привязывают к воздушному шарику вырезанного из бумаги человечка в юбке.
Я в пятом. Бежал в уборную, но остановился посмотреть, что происходит
— еще ничего не понимая.
Человечка привязывают за шею, а кто-то еще наматывает на нитку презерватив. Под общий гогот и свист шарик медленно — для него и презерватив вес — поднимается к потолку. Повешенный человечек болтается. На нем две крупные красные буквы: ИГ.
Восторженные вопли:
— Гандон, бля буду, зырь, гандон!
До меня доходит, что они повесили мою маму.
Сбегается чуть ли не вся школа. Учитель физкультуры со шваброй пытается достать шарик, но тот уже прилепился к потолку. Физрук идет в спортзал, приносит шест. Из стола и стульев делает пирамиду, забирается на нее. Долго пытается пырнуть шарик, как пикой. Потеха.
Вечером перед сном я плачу от обиды — почему мама никого не наказала? Она говорит мне, гладя по голове:
— Тот, кто это сделал, и тот, кто смеялся, когда-нибудь поймут, как глупо и нехорошо они поступили. И им будет стыдно.
Я плачу, потому что не верю ей.
Помню, я дал себе слово, что никогда не буду работать в школе.
А потом, уйдя из «Ровесника», преподавал. И сына тоже взял к себе.
На эту квартиру на Пушке мы тогда переехали, поменявшись с каким-то алкоголиком. Кроме нас там был еще один жилец. Наш сосед-репетитор, учитель на пенсии по выслуге лет, показался мне сперва забавным неряшливым чудаком. Он жил в двух комнатах со своей матерью, но та умерла, и теперь обе комнаты были впритык уставлены столами, за которыми сидели ученики. Ни детей, ни жены у него не было. Матвей Андреевич не гнушался ничем: готовил к вступительным экзаменам, натаскивал на сочинение, накачивал второгодников, развивал речь у малышей. Одно время к нему ходил какой-то недоразвитый великовозрастный детина с вечно потной головой, Матвей Андреевич показывал ему картинки. Я хорошо его запомнил, потому что тогда я еще раздевался в коридоре, вешая пальто и шапку на общую вешалку у дверей. И вот однажды утром, собираясь уходить, я своей новой ушанки там не обнаружил, но вместо нее висела — такой же черный кролик — шапка того, ненормального, невероятно вонючая и осклизлая изнутри. На улице был мороз — стояли новогодние холода 79-го года — делать было нечего, я торопился и нахлобучил на себя эту прокисшую шкурку. И чего я вдруг вспомнил ту шапку с чужой потливой головы? Сам не знаю. Она мне потом несколько раз снилась. Будто я хочу снять ее с себя — и не могу.
Не знаю, чем Матвей Андреевич болел, но все его шкафы были забиты полиэтиленовыми мешочками со всевозможными лекарствами, уже годами просроченными. От него всегда исходил легкий аптечный запах. Он никогда себе не готовил, питался какими-то консервами, но при этом накрывал стол с ножом, вилкой и салфеткой. Он ежедневно убирался, но весь мусор загребал щеткой просто под кровать. Принимал ванну каждое утро, но полотенце менял, наверно, раз в год — оно воняло на всю ванную.
И конечно, носки. У него на всех носках были дырки, зиявшие из шлепанцев, и на пальцах и на пятках.
Он был каким-то жалким.
А ученики шли валом, потому что за уроки он брал всегда дешевле всех других репетиторов.
Матвей Андреевич мне не нравился все больше и больше, и наверно, это было взаимно. Однажды я чистил зубы, а он заглянул в ванную и возмутился, что я чищу зубы его щеткой. Не знаю, как так получилось, что мы пользовались с ним одной щеткой, и, наверно, уже давно — меня в ту секунду чуть не стошнило.
Время от времени я делился с мамой моими, наверно, излишне резкими наблюдениями над соседом, но она отмалчивалась.
И вот, вернувшись после стройотряда, я вдруг от нее услышал:
— Мне нужно с тобой поговорить.
Она была совсем не похожа на себя, я такую ее не знал — смущенную, растерянную.
— Что случилось?
— Понимаешь… Дело в том, что… Короче говоря, мы с Матвеем Андреевичем… Мы хотим пожениться.
Я опешил. Кажется, впервые в жизни я подумал о том, какой одинокий человек моя мама — при всей ее школе и сотнях людей, с которыми она каждый день имела дело.
Я поборол смущение тем, что криво ухмыльнулся:
— И что?
— Я хотела спросить у тебя: как ты к этому отнесешься?
Вдруг мне захотелось сказать что-то злое, чтобы причинить ей боль, как можно больше боли. Получилось совсем по-мальчишески:
— Да делайте, что хотите, только оставьте меня в покое, я посрать хочу, наконец, по-человечески! Два месяца по-людски не срал! — и заперся в уборной.
Ознакомительная версия.