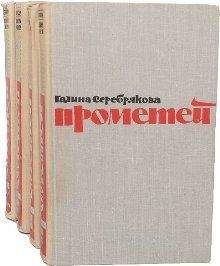«Неужели я ставлю гнилые подпорки?»— думал он в бешенстве и отчаянии.
Адальберт фон Борнштедт никогда ни перед кем не чувствовал себя таким ничтожным и оробевшим, как перед нарядным высокомерным старичком, полулежавшим у камина в кожаном вольтеровском кресле. Имя Меттерниха так гипнотически действовало на протяжении многих десятилетий, что Адальберт, всегда невозмутимый, с трудом владел собой. Он избегал смотреть в глубоко запавшие глаза этого бога реакции, обладавшего хваткой барса и хитростью лисицы.
— Мы посылаем вас во Францию,— говорил князь.— Эта страна стала после тысяча восемьсот тридцатого года мусорным ящиком мира. Все бунтари, заговорщики, революционеры—вся грязь человеческая нашла там прибежище. Тем лучше, их легко будет нам вымести или жо сразу сжечь, чтоб не разносить заразу по миру. Революция опасна, как чума. Впрочем, плебс, несмотря на силу мускулов, никогда не победит. Это тело без головы. Я не могу относиться серьезно к господам Прудонам, Бланам и Бланки. Люди нашей высокой культуры и ума не пойдут к черни. Если они не патриции по рождению, то продажны. Их можно купить. Несомненно, революционеры обречены: у них никогда не будет своих ученых и вождей. Сейчас в Париже заправляет всем ничтожество Гизо. Впрочем, Тьер хоть и в другом роде, но тоже акробат. Увы, не стало настоящих людей, таких, как герцог Ришелье, например. Вот был политический гений, не правда ли? Что будет с человечеством, когда погаснет последний факел ума и знаний, освещающий землю?
Адальберт фон Борнштедт понял, что под факелом Меттерних подразумевал себя, и подобострастно ответил, смягчив лесть мертвенной неподвижностью лица и бесстрастностью голоса:
— Тогда на землю снизойдет тьма, но я уверен, как и все друзья порядка и покоя, что ваша светлость еще много лет будет освещать своим гением пути, по которым пойдут цивилизованные страны.
Меттерних самодовольно улыбнулся и предложил сесть фон Борнштедту, все еще стоявшему перед ним навытяжку. Канцлер высказал несколько критических замечаний о политике России и Англии и спросил о настроениях в Пруссии. Когда фон Борнштедт закончил свой отчет о родной стране, канцлер сказал:
— Вы напишете мне подробное донесение о настроениях правительства и обо всем существенном в Берлине.— Подумав, продолжал: — Когда вы будете во Франции, присмотритесь к Тьеру. Сейчас это проще. Гизо пролез в Доверие к глупцу королю, и Тьер попал в опалу. Однако Тьер, этот честолюбец и хитрец, еще будет фиглярничать не раз на мировой арене. Он обладает исключительным Даром приспособления, превосходный эквилибрист в политике. А это важное свойство. К тому же никто из деятелей современной Франции не любит власть так страстно, как он.
— Да,— подтвердил Адальберт фон Борнштедт и, ободренный покровительственной улыбкой Меттерниха, добавил: — Один французский поэт отлично сказал, что Тьер жаждет управлять один или с большинством, один или с меньшинством, управлять со всеми или против всех, лишь бы править, лишь бы быть во главе государства.
Поздно ночью Адальберт фон Борнштедт покинул дворец Меттерниха и под утро в закрытой карете выехал из Австрии.
Но, будучи старательным шпионом Меттерниха, пруссак по происхождению, он не довольствовался только этой службой и одновременно, по совместительству, был шпионом также и прусского правительства. Оно весьма дорого оплачивало его услуги, Частичка «фон» — принадлежность к дворянству — придавала особую цену Борнштедту. Как и Мейербер, он любил Париж, предпочитал всем женщинам и винам французские и скучал в казарменной атмосфере Берлина.
Так, продавая то Пруссию Австрии, то Австрию Пруссии, а иной раз и обе эти страны России, он внимательно следил в Париже за эмигрантскими кружками, говорившими на его родном языке. Звание редактора ему пришлось весьма кстати — как удобное прикрытие.
Но вместе с Генрихом Бернштейном он промахнулся, начав борьбу с «Молодой Германией», рассердив этим берлинских филистеров — зажиточных горожан, которые изображали из себя сторонников реформ и прогресса. Между двумя кружками пива, после сытных сосисок, они охотно занимались критикой своего правительства, не приносившей, впрочем, иикому вреда и очень способствовавшей их пищеварению. Курс, взятый газетой «Форвертс», их сначала разочаровал, а затем и возмутил.
Тщетно Генрих Бернштейн писал статьи, в которых обещал, что газета откажется от всяких крайних взглядов, как реакционных, так и революционных.
Еще раньше своих соотечественников отбросили газету парижские эмигранты.
— Умеренность, золотая середина — так учил нас Аристотель,— пытался вторить Бернштейну в своих статьях и Адальберт фон Борнштедт. Он был готов на все, лишь бы сохранить добрые отношения с немецкими эмигрантами и не отпугнуть их от газеты. Ведь это была та дичь, за которой его послало охотиться прусское правительство, щедро вознаграждая за каждое донесение.
Но, прочитав и эти лояльные высказывания, эмигранты не поверили редактору и издателю. Тираж газеты резко упал.
В это время Борнштедт, поссорившись с прусской полицией, выполнял указания Австрии. Заметив резкое изменение курса газеты, департамент тайной полиции в Берлине доложил правительству о возмутительной пропаганде газеты «Форвертс» и добился запрещения ввоза ее в Пруссию. Остальные немецкие правительства последовали этому примеру. Крах навис над «Форвертсом». Адальберт фон Борнштедт, ожидая головомойки, обрадовался отставке с редакторского поста и поехал в Берлин с покаянием.
Генрих Бернштейн на этот раз, надевая утром корсет и подстригая вьющиеся бакенбарды, дольше обыкновенного философствовал о сущности жизни. Хотя положение газеты казалось безнадежным, он отправился к Мейерберу, готовый к отпору и нападению. Однако патрон встретил ого любезнее, чем он ожидал. Накануне прошла с успехом премьера его оперы «Лагерь в Силезии», прославлявшей Фридриха II. Правда, наслаждаясь аплодисментами и вызовами, Мейербер знал, что незаменимый Генрих Бернштейн дорого оплатил клакеров, которых рассадил для большей конспирации не группами, а порознь во всем театре. Они шумно доказывали, что получили деньги не зря.
Знаменитый «шведский соловей» — певица /Кении Линд превосходно спела партию цыганки, Декорации и оркестр сумели передать военную мощь, великолепие двора одного из царственных Гогенцоллернов. Безукоризненны были также афиши и либретто. Королевско-прусский музик-директор ценил превыше всего успех. Денег у него было так много, что он мог их швырять на любую прихоть.
— Итак,— сказал Мейербер, подымаясь из-за рояля и томно срывая туберозу в одном из вазонов, которыми после вчерашней премьеры была заставлена его гостиная,— газета не попала в тон и, сфальшивив на верхней ноте, сорвала голос.— Он остановился, ожидая похвал. За что бы его ни хвалили — за оперу, костюм или остроту, он жаждал восхищения. Генрих Бернштейн, понимая это, гулко захохотал.
— Превосходно, герр директор, превосходно сформулировано, колко сказано! Да, гениальные люди во всем гениальны, будь то звук или слово. Об этом следует заказать статью кому-нибудь из наших всезнаек.
— У вас, кажется, не осталось больше подписчиков, кроме меня,— раздвинув в улыбке узкий насмешливый рот, сказал композитор, вдевая цветок в петличку сюртука.
— Да, дело обстоит плохо. Мы поставили, образно выражаясь, не на ту лошадь. Что ж, это случается и с очень опытными людьми. Издатель в наше время тот же игрок, и весьма азартный. Нам необходимо изменить курс. Это вывод, который подсказало нам поведение прусского правительства. Как оно глупо, будем откровенны. Оно не поняло своих же государственных интересов, отбросив такого друга, такую рекламу, как наш благонамеренный печатный орган. Тем хуже для них. Раз «Форвертс» запрещен у нас в Пруссии, надо сделать его достойным этого политического акта. Необходимо придать газете всю притягательность запрещенного издания; в наши дни это лучшая из реклам, обеспечивающих спрос. Запрещенная газета! Да все обыватели сегодня наши подписчики и готовы добыть газету хотя бы контрабандным путем. Мы им поможем. Эмигранты в Париже тоже призадумаются. Будьте уверены, мы никогда не имели лучших коммерческих перспектив. Но нельзя обманывать потребителя. Он ждет сенсаций и заранее содрогается от восторга. Среди немцев я отыскал незаменимого редактора для нашего возрождающегося из праха детища.
— Кто это? — лениво спросил Мейербер. Он скучал.
— Баварец родом, молод, фанатичен, верит в то, что делает и говорит, весь экспрессия и протест, к тому же перо его жжет, как крапива. У него много талантливых друзей: Гейне, Руге, Маркс... Все они будут нашими авторами. Колоссальные возможности! Я надеюсь, у вас нет возражений против Бернайса. Кстати, по секрету, он признался мне, что считает создателя «Гугенотов» величайшим композитором нашего века. Ваша музыка — это бурлящий водопад, то тихий, то грозный океан, в то время как все эти Доницетти, Россини и бездарные Верди производят подслащенный сироп, разбавляя его в массе воды.