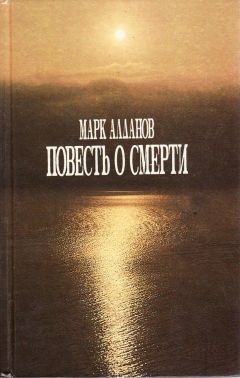- Свистит и кричит, совсем как бы поет, - ответил траппер. Он осмотрел с головы до ног рябого господина, но профессии не определил, решил только, что неважная птица.
- Совсем как бы поет, - еще громче повторил он, заметив, что господин туг на ухо. -В древней Мексике к голосу удава прислушивались... Он считался священным животным... Пожалуйте, господин... Будете довольны...
Рябой человек что-то пробормотал, порылся в кошельке и, вынув монету, вошел в сад, где с любопытством и робостью осматривались солдат и чиновник. Траппер пренебрежительно оглядел оставшуюся публику, кивнул торговке и закрыл калитку.
- Поет?.. Удав?.. - беспокойно спросил опять невысокий господин.
- Змеи очень музыкальны, - сказал траппер, гладя кролика. - Вот увидите потом индийских змей, они, может быть, музыкальнее нас с вами. Их заклинают игрой на флейте. Они изгибаются, танцуют, дуреют, тогда с ними можно делать что угодно (у господина дернулось лицо)... Только индийские без голоса... Один удав из всех змей кричит. Обыкновенно когда кормят... Ведь для него еда - главное дело... Только все он недоволен, все не то... И хорошо, а все не то... Вот об этом, верно, и поет... Поет, - повторил он и, открыв дверь домика, предложил посетителям пойти.
- Нет, уж лучше вы раньше, - сказал, смеясь, чиновник.
Траппер тоже засмеялся. Он спрятал кролика под полу и вошел первый; за ним последовали другие. Они подошли к клетке. Голова удава слегка покачивалась над составленным из колец конусом. «S-sacrament!..»{26} - говорил, ежась, чиновник. «Jesus Maria! Jesus Maria!» - повторял солдат. Невысокий господин с ужасом смотрел на чудовище. Траппер одной рукой подтащил к клетке лесенку и вынул из-под полы дрожавшего кролика.
- Послушайте, - отрывисто сказал господин, схватив траппера за руку: он, видимо, толь ко теперь понял, в чем дело. - Не надо бросать... Я вам заплачу...
Траппер с недоумением посмотрел на рябого человека. Он, впрочем, привык к тому, что люди, особенно дамы, проявляют жалость к кролику в последнюю минуту перед кормежкой змеи.
- Нам с вами надо есть, господин, - ответил он, - и удаву тоже надо есть. Ведь вы, вер но, устриц едите: они тоже живые. (Это был его обычный довод, всегда действовавший на жалостливых посетителей.) Как его не кормить? И господам будет обидно, они деньги заплатили...
Из камеры раздался странный протяжный звук - не то крик, не то свист. Удав заметил кролика. Он преобразился. Глаза его заблистали, шея изогнулась, как у лебедя, маленькая голова задрожала. Зрители ахали.
- В самом деле, в этом звуке есть что-то музыкальное... И насмешливое... - сказал с улыбкой чиновник, обращаясь к невысокому господину; он, видимо, знал его в лицо. - По- своему он тоже музыкант.
Невысокий господин сердито взглянул на чиновника, что-то невнятно буркнул в ответ и снова перевел глаза на клетку. Траппер взобрался по лесенке, поднял решетку, приоткрыл окошко (запахло мускусом), бросил в камеру кролика и тотчас окошко захлопнул. Невысокий господин вскрикнул. Кролик мягко упал на песок и застыл, встретившись глазами с удавом. Крик змеи повторился. Маленькие глаза блестели все сильнее. Удав медленно откинул назад верхнюю часть корпуса, медленно раскрыл пасть - и вдруг рванулся вперед всем телом, мгновенно развернув огромные страшные кольца. Невысокий господин вскрикнул, закрыл руками дернувшееся лицо и выбежал из домика.
Müde war ich geworden nur immer Gemälde zu sehen{27}.
Гёте
Андрей Кириллович Разумовский с женой и невесткой прожил два года в Италии.
На семейном совете, созванном в Вене осенью 1822 года, Разумовский изложил состояние своих дел. Он смущенно прочел что-то вроде небольшого доклада, путаясь и разыскивая на листке цифры доходов, долгов, процентов по долгам. Цифры эти подготовил для князя управляющий. Сам Андрей Кириллович свои дела знал довольно плохо. В былые времена он едва ли мог перечислить по памяти оставшиеся от гетмана многочисленные имения. Теперь почти все было продано, деньги прожиты, и от огромного состояния оставались крохи - или то, что казалось крохами Андрею Кирилловичу.
Свой доклад Разумовский читал на французском языке, что тоже было неудобно: слова все были труднопереводимые, как волость, уезд, десятина, или же глупо звучали по-французски, как «ревизская душа». Андрею Кирилловичу гораздо легче было читать перед императорами и министрами доклады об устройстве Европы, - европейские государственные дела он устраивал гораздо легче и увереннее, чем свои собственные денежные. Вдобавок Разумовский все время испытывал тяжелое чувство: и жена его, и невестка, и все австрийские родные до того считали князя богачом из богачей.
Семья проявила чрезвычайную деликатность, о расстройстве дел говорили в тоне беззаботном, с оттенком веселого удивления, означавшим: вот, мол, какая вышла забавная история, мы стали бедны! - но за этим тоном Андрей Кириллович чувствовал разочарование. Никто и в мыслях не имел упрекать Разумовского; его мучила, однако, совесть; женившись шестидесяти трех лет от роду на молодой австрийской графине, он не имел права быть бедным.
После доклада венские родственники дали Андрею Кирилловичу несколько практических указаний. Один сразу придумал выгоднейшую финансовую операцию и довольно бойко перевел рубли на дукаты, но, как оказалось при проверке, смешал серебряные рубли с ассигнациями. Другой предложил заложить Батурин, - имение было заложено и перезаложено, и о сумме долга по закладной Андрей Кириллович раза четыре говорил в докладе. Третий решительно советовал гнать кредиторов в шею, - это князь делал и без того, правда, лишь фигурально.
Впрочем, прения, расчеты, неуспех предложенных комбинаций очень скоро утомили родственников, и все сошлись на том, что и предлагал с душевной болью Андрей Кириллович: он хотел закрыть свой венский дворец, вновь отстроенный после пожара без прежнего великолепия, отпустить прислугу, кроме какого-нибудь десятка самых нужных и преданных слуг, и переехать на жительство в Италию.
Один из молодых Тюргеймов, недавно побывавший в Риме, особенно горячо поддержал этот план и в доказательство итальянской дешевизны привел несколько ресторанных цен. "Князь Разумовский слушал с печальной улыбкой: ему впервые в жизни приходилось слышать такие речи, да и дело было, конечно, не в ценах устриц и вин, а в том, что в Италии можно было обойтись без ста человек прислуги, без пятидесяти лошадей на конюшне, без огромных приемов, без всего того, что в Вене по образу жизни, кругу и связям Разумовских представлялось совершенно необходимым.
Когда решение было принято, Андрею Кирилловичу стало легче. Он с нежностью поцеловал руку жене и невестке, как бы благодаря их за то, что они на него не сердятся. Разумовский действительно чувствовал себя виноватым, однако выражение лиц родных чуть-чуть его раздражило именно подчеркнутой деликатностью. У него мелькнула мысль, что в конце концов уж перед невесткой он едва ли виноват, как и перед другими Тюргеймами, вместе с ним расточавшими несметное богатство гетмана Кирилла Григорьевича. Но эта мысль только проскользнула у Разумовского: он очень любил и свою жену, и ее родных.
Семья занялась приготовлениями к отъезду. Решено было пожить немного в Вероне, потому что там как раз происходил международный конгресс; в Риме, потому что это был Рим; и в Неаполе, потому что там жил старый приятель, король Фердинанд, при котором Андрей Кириллович состоял посланником больше сорока лет тому назад.
Уезжая из Вены, и Андрей Кириллович, и его жена, и невестка в один голос говорили, что хотят пожить тихо, уединенно, в тесном семейном кругу, никаких гостей не звать и ни к кому в гости не ездить. Однако уже по дороге оказалось, что в тесном семейном кругу скучновато. Они любили друг друга, но разговаривать им было не о чем. В Италии дамам стало веселее. Веронский конгресс гремел, отдаленно напоминая по блеску Венский. Разумовские тотчас вошли в круг международных знакомств и больше из него не выходили во все время своего пребывания в Италии. Настроение Андрея Кирилловича, однако, становилось все печальнее, - зрелищ на его веку было больше чем достаточно.
На одном из веронских приемов Шатобриан, узнав, что Разумовские собираются в Рим, мрачно сказал Андрею Кирилловичу: «Rome est une belle chose pour tout oublier, mépriser tout et mourir»{28}. Разумовский прекрасно знал, что Шатобриан имеет особые основания быть мрачным: у него не было ни гроша в кармане, его мучила подагра, последние его произведения не имели успеха, в своих интимных делах он очень запутался, и сам больше не знал, кого, собственно, любить: госпожу Рекамье, или госпожу де Дюрас, или госпожу Арбутнот (иные даже робко высказывали предположение, уж не любит ж Шатобриан свою жену, - но над ними все смеялись). Тем не менее фраза знаменитого писателя запала в душу Андрею Кирилловичу.