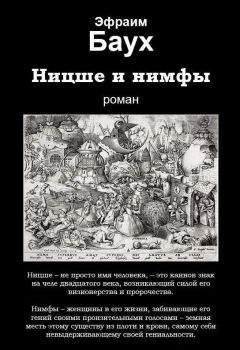Ознакомительная версия.
Подобно истинному мыслителю, желать быть непонятым, чем понятым превратно, ибо такое понимание упрощает и уплощает его мысль. Непонятое же несет в себе семя любопытства, горький аромат неразгаданной тайны.
17
Мне было десять лет, когда в день Воскресения Иисуса я замер, услышав расширенный акустикой городской церкви величественный хор из «Мессии» Генделя — «Аллилуйя». Это было ликование ангелов по поводу вознесения Иисуса на небо.
Потрясенный до глубины моей еще неокрепшей детской души, я вернулся домой. Новое ощущение мира и жизни раскрывалось с каждым подобранным мной аккордом. Чудо было в том, что я их извлекал своими пальцами. Меня невозможно было оттащить от фортепьяно. Занятие годами, поиски сочетания тонов и аккордов научили меня играть с листа.
Небесное звучание, мощь, сам феномен музыки, оживающие в звуках нотные знаки, доводили меня до слез.
Маленький орган церквушки в Рёккене для меня ближе, трогательней великолепных органов знаменитых соборов. Звуки у него интимней, чище, гортанней, касаются сокровенных струн души. Они словно бы струятся в безмолвии длящейся затаенной жизни, подслушанные не стихающей стихией музыки и преображаемые ею в хоралы, мадригалы и особенно реквиемы, доводящие до благодарных и благодатных слез очищения.
Параллельно учебе игры на фортепьяно, я пробовал импровизировать, сочинять первые музыкальные композиции. Трудно было вначале понять, что с чем приходит — головная боль с музыкой или музыка с головной болью. Но затем пришло понимание: самозабвенная отдача музыке доводит до головных болей, долгое вглядывание в ноты приводит к болезни глаз. По этой причине, меня, десятилетнего подростка, освобождают летом тысяча восемьсот пятьдесят шестого от учебы.
Колокольный звон в детстве ощущался каким-то странным подъемом духа. Это было легкое общение с Ангелами, неожиданный праздник среди мертвых будней, куда взрослые вмерзли всей своей жизнью, этой горстью плоти, этим обтрепанным ворохом дней.
В этом и сущность музыки. Относитесь к ней налегке. Откровения придут, и чересчур скоро. Так рано я, Фридрих-Вильгельм, утратил радость своего кайзеровского имени. Я уже не мог играть жизнью по-детски, как ветром. Счастье это затянувшееся детство мира, музыка хочет его продлить, и не в силах. А на улицах обступают кольцом, дышат мне в затылок евнухи жизни. Скучно их существование, отравлено сознанием, что их понимание мира весьма ограничено. Вот они и пытаются развеселить себя войнами. Это уже палачи, ханжески прикрывающиеся верой. Существа, начисто лишенные слуха. Обломки мертвой природы. Умеют лишь физически заправляться и оправляться, и поднимать руку, если в ней — топор, нож или ружье.
Удивительно, что десятилетним подростком я уже так видел мир. Музыка вызывала во мне смесь наслаждения и страха.
Было ли это первым смутным предчувствием того, что я позднее вырвусь из тенёт страха Божьего, отвергну небесную музыку и вместе с ней — Бога?
Тогда, в детстве, я понял, что только музыка дает силы и возможность претерпеть все неприятности и невзгоды. Когда я здесь музицирую, в доме умалишенных наступает тишина.
С течением времени музыка становится истинным спасением. Когда я прикасаюсь к прохладным клавишам фортепьяно, они сами скользят, извлекая из моей души скрытую в ней гармонию, уравновешивающую жесткость и необычность моих мыслей, стремящихся перевернуть закосневший склеротический мир, который, кажется, еще миг скует меня по рукам и ногам. Музыка мгновенно освобождает от этих оков. И если в мыслях я мечу громы и молнии, в музыке меланхолический Шуман может довести меня до слез.
18
Фортепиано — непременный атрибут дома умалишенных.
Раскаты аккордов и пассажей из-под моих пальцев, кажутся обнадеживающей вестью иного мира, льющейся из некоего тайного раструба в эти стены, пропахшие разлагающейся плотью в смеси с карболкой и сердечными каплями. Обитатели дома замирают. Никаких стонов и криков.
Вероятно, через какие-то отдаленные польские корни меня всегда тянуло к русской литературе, особенно усилившейся после знакомства с Лу и ее любимым поэтом Тютчевым. Но еще до нее, в двадцатилетнем возрасте, я сочинил музыку на стихи Пушкина «Буря мглою небо кроет…» и «Заклинание», словно предчувствуя в нем собственную судьбу:
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!..
Иногда я повторяю этот романс на фортепьяно дома умалишенных, словно жду дорогую мою живую Лу, блуждающую тенью где-то в мире, как герой романса ждет Леилу.
Не оставляю клавиши помногу часов. Меня раздражает все, что нельзя выразить музыкой.
Странные мысли посещают меня во время игры. Мне видится аккорд фикцией, мгновенным сечением голосов, и каждый вопит не своим голосом. Каждый мир кричит о своей заброшенности, боли, а вместе — благозвучный аккорд.
Голос — улика. Хор — коллективное покрытие преступлений. Музыку надо слушать вертикально, чтобы в одном из ее пластов засечь себя.
Дело весьма трагическое — погрузиться в Преисподнюю, и при этом сохранить веру в порядок и смысл.
Это всегда — чудо и печаль — одиноко среди немоты мира, в сумасшедшем доме звучащая музыка. Она падает каплями, впадает в беспамятство. Вдруг спохватывается, путаясь и пытаясь в единый миг раскрыть всю свою неимоверную глубину, но, испугавшись собственной смертельной доверчивости, сворачивается улиткой в раковине.
Глубинные струны колеблют пламя свечи.
Когда затихает головная боль, отступает чувство рвоты, готовое вывернуть нутро, наступает беспечальность, обнадеживающее отсутствие.
Как счастливое ощущение свободы, обнаруживается в душе изначальная жажда бродяжничества, ставшая в будущем формой моей жизни.
Музыка истаивает, как пламя свечи, исходящее воском.
Спасение ощущается в случайной скрытой связи музыки со временем.
Музыка лечит.
Прием же лекарств — скорее ритуал, чем помощь. Из этих стен только музыке удается упорхнуть, сбежать в воспоминания начала века, оставив следы в кажущейся в этих стенах нелепой лепке потолка.
Не хватает органа, дыхание которого чудится спасением в этом доме умалишенных — миниатюрном филиале Преисподней.
Сколько там боли и страха. Ничего не исчезает.
И приходит музыка, — и природа перед ней оказывается младенцем.
19
Музыка — заклинание: воскресить боль.
Когда звучит музыка, веришь, что жизнь не проиграна.
Лучший психиатр — сочинитель музыки. Он знает, что такое страдание.
Что эти паузы? Провалы в небытие? Оцепенение от увиденного ужаса в разверстой бездне?
Находить в безнадежности удовлетворение — вот Преисподняя.
Темное изобилие звуков толпится у входа в Преисподнюю.
Там — в гибельной неотвратимости творчества — у того, кто творит, нет родных. Нет женщины, детей, самой жизни.
Есть лишь музыка, неведомо откуда вливающаяся через отверстый слух в остолбеневший мир.
Замирает дыхание. В музыке слышится движение крыльев.
Улетает душа? Или кружится в отдалении, мучительно желая приблизиться и зная, что это невозможно. На миг все открывается и становится на свои места.
Это не музыка.
Это мольба о потерянной душе.
Ком стоит в горле, пока пальцы двигаются по клавишам.
Печали нет. Слезы катятся из глаз от угадываемого музыкой, мольбой, безмолвием сокровенного знания, перед которым нельзя лгать и фальшивить. Знание это выворачивает душу, берет на себя всю смертельную тяжесть неудавшейся жизни. Оно говорит правду, которую я сам от себя таю. И слезы текут в благодарность и от непереносимости собственной лжи, предательств и гибельной слабости.
Нотные рукописи не горят.
И я слышу пение ангелов, доносящееся из расщелин неба и приносимое ветрами надежды. Голоса высших сфер. Автографы мироздания.
Я ведь всю жизнь уповаю на музыку: свести с неба, в этот мрак, Ангела добра. Угадать, отличить, окликнуть. Не ошибиться. Но вместо этого всю жизнь соскальзываю в Преисподнюю.
Каждый выделенный мной Ангел оказывается общим местом. Банальностью. Значит я давно уже мертв. Но и в Преисподнюю меня не впускают: сама цель моих страданий — поиск Ангела — их пугает.
Я бросил это дело — играть на публику, ибо однажды отчетливо увидел: в зале нет лиц. Одни маски, и не слушают, а судят меня.
За что? За то, что я хочу их выдать. Не умею и не сумею, но очень хочу.
Нет, они не боятся. Но это их раздражает.
Играя, я смотрю на отражение своих пальцев в лакированной деке. Мне это кажется спасением. Но ощущаю, что и пальцы захвачены ими.
Ознакомительная версия.