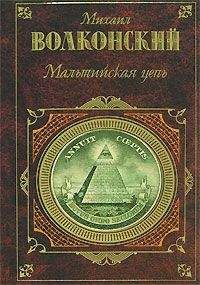Виделись они нечасто – всего раза три-четыре, и ничего собственно в эти три-четыре раза не произошло между ними. Было что-то похожее на «начало» раз в аллее, когда они случайно остались одни, но это было так неясно, промелькнуло так скоро, что все равно, что ничего не было.
Соня шла впереди, князь сзади нее. Она шла и чувствовала на себе его взгляд и боялась обернуться, чтобы не поймать этого взгляда врасплох. Она знала его – так смотрели, случалось, на нее на балах в Петербурге; но странно: никогда ей не доставляло это такого удовольствия, как теперь. Теперь она, словно русалка, нежащаяся у берега на лунном свете, невольно чувствовала, что, помимо какого-нибудь усилия с ее стороны, как-то само собою, ее движения особенно мягки, гибки и походка особенно легка и красива. Это был один только миг. Князь Иван сейчас же догнал ее, спросил что-то, и они заговорили о постороннем, неинтересном, и все пропало.
Соня с матерью и сестрой уехали в Петербург, Косой остался в деревне, и года три они не только не виделись, но не было даже вероятия, что они увидятся когда-нибудь.
И вот каждый раз, когда в воспоминании Сони, при мысли о молодых людях, знакомых ей, непроизвольно для нее являлась статная, ловкая и красивая фигура князя Ивана, она делала над собой усилие, чтобы не думать о нем. Было ли это из самолюбия или ради инстинктивной самозащиты, но только она укрепляла себя соображением о том, что ведь он же, вероятно, не думает о ней, так что же ей вспоминать о нем, зачем?
И вдруг именно теперь, когда она почти уже приучила себя забыть князя Ивана, является совершенно неожиданно напоминание о нем: оказывается, он близко, он в Петербурге, здесь…
«Ну, и что же из этого, что он здесь? – с улыбкой спрашивала себя Соня. – Ну, он приехал… как, когда, зачем приехал он, все это ей очень хотелось знать, но она, боясь сразу выдать себя, да и неприлично было так уж очень интересоваться, нарочно ничего не спросила у Торусского, – и, наверно, никакого ему дела нет ни до меня, ни до кого… Однако ж он все-таки просил передать поклон, и именно мне. Почему именно мне, а не Дашеньке, не маме?.. Значит, они говорили обо мне, значит, он сказал что-нибудь Торусскому».
Соне было и приятно думать так, и вместе с тем беспокойно и «хлопотливо», как она мысленно называла подобное тому состояние, в котором находилась теперь. У ней все уже было улажено внутренне относительно самой себя, о князе Иване – она решила забыть его, а вот теперь начинаются опять «мысленные хлопоты».
Она знала, что не заснет, пока не успокоится, и по своей, известной только ей одной, привычке, приподнялась спиной к подушкам, села и поджала ноги коленами под подбородок. В таком положении одна, ночью, она решала обыкновенно все самые сложные вопросы своей жизни.
В это время раздался знакомый ей, всегда действовавший на нее раздражительно, стук деревянных каблуков Веры Андреевны. Этот стук, чистый, с отбоем, приближался к ее комнате, становясь все яснее, и доходил обыкновенно до самых дверей. Тут делался крутой поворот, слышалось движение размахнувшейся юбки, каблуки стукали резким ударом и начинали удаляться, постепенно замирая в отдалении; потом снова они удалялись. Это была привычка Веры Андреевны ходить так перед сном, и сегодня, несмотря на проведенный вечер в гостях, она тоже ходила. Соня слышала уже по характеру стука каблуков, что сегодня хождение будет продолжительно.
«Господи, даже ночью покоя не дадут!» – мучительно мелькнуло у нее.
Ничто не сбивало так ее в мыслях, как стук этих каблуков по ночам.
Главное, что ход ее мыслей как-то бессознательно подчинялся им. Когда каблуки удалялись – и мысли становились яснее, и все как-то улаживалось в них или открывалась надежда, что все уладится, иногда даже составлялись планы и находились пути к тому, чтобы все устроилось. Недоставало «додумать» какого-нибудь пустяка и все было бы хорошо, но именно в это время слышалось приближение каблуков к дверям, и мысли путались, сбивались и находились новые, непредвиденные препятствия.
Это бывали самые тяжелые, самые отчаянные минуты в жизни Сони. Она готова была сделать все, что угодно, лишь бы не было этих ужасных бессонных ночей, когда ей не давали заснуть набегавшие одна за другую мысли и стук шагов матери мешал разобраться в этих мыслях.
И сказать ничего было нельзя. Вера Андреевна, наверно, поставила бы в пример Дашеньку, которая спала же преспокойно. Да и Вера Андреевна была вполне и искренне уверена, что ходит тихо и никого не беспокоит. Для нее самой эти ночные хождения по комнатам были одним из мучительных выражений отвратительного состояния духа. Сегодня, после вечера у Творожниковых, снова поднялось все в ней.
Что такое были эти Творожниковы? Ничего, так себе, и жить даже не умели порядочно, а между тем все у них было: и вечера они могли делать, и музыку нанимать, и дворовых держать. Да Творожниковы еще что!.. Но сколько же людей живут во сто тысяч раз лучше Творожниковых, а почему, за что, чем хуже их сама Вера Андреевна? Чем виновата она и что она сделала дурного в жизни, что жизнь так слагается для нее? Она вышла замуж и была счастлива со своим милым и любимым мужем. Достатки у них были небольшие, но все-таки на них хватало. Были знакомства, связи, муж служил и мог надеяться службой добиться совершенно обеспеченного положения, и тогда Вера Андреевна могла пожить в свое удовольствие. Но тут наступили эти ужасные дни падения Девиера, его казнь, а вместе с этим ссылка ее мужа, за которым ей не позволили следовать.
Он умер вдали от нее, скоро после того, как они расстались, и она осталась одна с двумя девочками. Старшая была любимица бабушки Соголевой. Та взяла девочку к себе, а с Дашенькой Вера Андреевна уехала в деревню, маленький клочок земли, ее приданое – все что у ней осталось.
Когда умерла свекровь, оказалось, что она жила долгами и после нее ничего нельзя было получить. Соня, приученная бабушкой к роскоши, вернулась к ней. Эта Соня ничего не просила и никогда не жаловалась, но Вера Андреевна видела, что ей тяжело.
И эта молчаливая покорность судьбе в Соне была точно живой, постоянный упрек Вере Андреевне.
Разве она не хотела бы дать дочерям и обстановку, и все условия хорошей жизни? Она для себя мечтала об этих условиях, но что же было делать, если они не давались, не приходили?
Дашенька, та была ребенок, та ничего не понимала, но Соня – один ее взгляд, иногда исподлобья, пристальный, чего стоил!
«Скверная девчонка, – думала про нее Вера Андреевна, – хоть бы рассердилась когда-нибудь! Ведь не сердиться нельзя: я сама не могу выносить эту жизнь, и она не выносит, больше, чем я, не выносит, а между тем тиха и молчалива».
И Вера Андреевна все быстрее и быстрее ходила по комнатам и в сотый раз перебирала, кто из мужчин, старых или молодых – это было решительно все равно, – может составить хорошую «партию» для ее дочерей, такую партию, которая позволила бы и им, и ей, Вере Андреевне, пожить в свое удовольствие, припеваючи, без нужды и недостатков.
Мало-помалу в мыслях ее нашлись такие женихи, и будущее начало рисоваться в светлых красках.
Тогда, перестав ходить, Вера Андреевна села в гостиной в первое попавшееся кресло и долго сидела там, мысленно переживая в будущем счастливые дни, которые она хотела бы приготовить своим дочерям.
На другой день после вечера у Творожниковых Левушка сидел с князем Иваном и рассказывал ему впечатления вчерашнего. Он и слышать не хотел, чтобы Косой съехал от него.
И действительно оказалось, что помещение найти в Петербурге было гораздо труднее, чем думал князь Иван. К тому же его камердинер Дрю на третий или четвертый день пришел отказываться, говоря, что он думал, что у князя есть свой «дворец» в Петербурге и что он, француз Дрю, будет вознагражден за «все усталости» дороги жизнью во дворце, а между тем никакого дворца нет и Дрю нашел себе место у французского посла, который сейчас же взял-де его к себе, а потом он пойдет в учителя к кому-нибудь из «бояр».
Левушка посоветовал «дать фланцузу в молду» и рассчитать его. Князь Иван рассчитал француза и остался пока у Левушки.
– Вы понимаете, сто я влюблен, совелшенно влюблен, – говорил ему Торусский, – она такая холосенькая, такая холосенькая, сто плосто ужас. И все говолят это, и Ополчинин. Он танцевал с нею менуэт…
Князь Иван сидел глубоко в кресле, положив ногу на ногу, и усмехался в усы.
– Да, я помню ее, она очень мила, – согласился он с Левушкой.
– Не мила, а плосто класавица, плосто класавица, и танцует как – загляденье!.. – Левушка выкинул ногою особенное па. – Я ей пеледал от вас поклон.
– От меня поклон? – удивился князь. – Зачем?
– Да уж очень она была холосенькая… Нельзя было не пеледать. Ну, как же, вы все-таки знакомы были и вдлуг без поклона. Я и пеледал…
– Да, разве что так!.. – опять усмехнулся князь Иван. – Но почему же именно ей, а не ее матери или сестре? Ведь у ней и сестра есть.