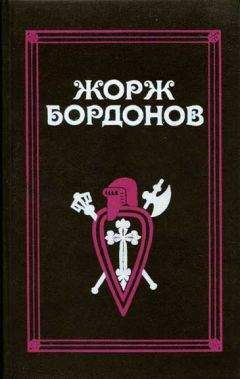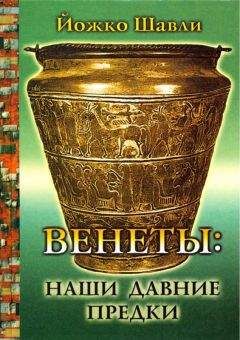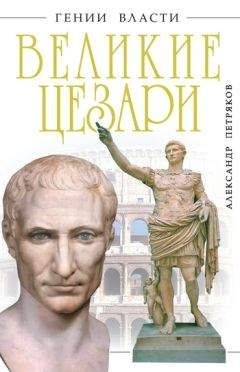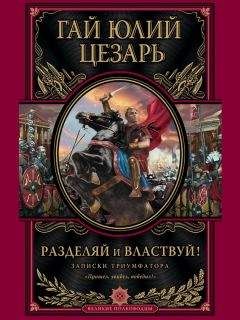— Если его возглавишь ты, он сможет быть неудачным.
— Многие так думают. Но последние сообщения довольно тревожны. Боюсь, что у Сената в ближайшее время появится возможность посмеяться[3].
— Возможно ли такое?
— Пойдем в дом, ветер усиливается. Если не возражаешь, продолжим разговор за обедом.
Он провел меня в свой скромно обставленный рабочий кабинет, столь отличный от кабинета Красса. Здесь стояло множество книг в красивых переплетах, а на столе лежал развернутый свиток.
— Это произведение поэта Катулла. Ах, если бы я мог заниматься одной поэзией!
Кальпурния бесшумно появилась и поставила на столе поднос с миндальным печеньем и вином. После того как она вышла, Цезарь сказал:
— Ты готов меня выслушать?
Я утвердительно кивнул головой, и он начал коротко излагать мне военную обстановку в Галлии. Голос его зазвучал жестче, каждое слово взвешивалось, наделялось значительностью:
— У меня были все основания думать, что в Галлии наступила тишина. Германские племена были отброшены за Рейн, мы разгромили белгов. Я решил, что можно вернуться в Рим. Мне не терпелось пожать лавры победителя и повидать Кальпурнию. Перед самым отбытием я разделил свои легионы на две группы. Одна осталась у подножия Альп под началом Гальбы, бывалого воина с холодной головой, но решительного. Другая — на берегу Луары, реки, которая делит Галлию пополам. Седьмой легион, который входит в эту часть армии и командует которым Публий Красс, стоит на самой отдаленной позиции.
— Это сын банкира-консула?
— Успокойся, ты не окажешься под его началом. Тебя посылаю лично я. Ты исполняешь только мои приказы. Итак, Публий Красс…
Ситуация складывалась действительно далеко не блестящая, даже, откровенно говоря, катастрофическая. Легат седьмого легиона, полагая, что западные племена окончательно покорены, устроил зимний лагерь прямо на границе, у андов. Из-за неурожая пшеницы анды не в состоянии были обеспечить легионеров продовольствием, и легат послал гонцов к соседним племенам: к венедам, хубиям, куриосолитам, которые населяют Ареморик. Перед самой зимой эти племена неожиданно отпустили заложников и пообещали больше не бунтовать.
— …Все началось с венедов. Они захватили посланцев Красса и потребовали в обмен на них пленных, которые находятся у нас. Тому же примеру последовали остальные племена. Никто из наших солдат не вернулся, за них требуют пленных.
Свернув листок со стихами (снова дела помешали ему насладиться изящным слогом), Цезарь разложил на столе карту.
— Мне обязательно нужно знать, охватило ли восстание племена, живущие на юг от Луары, в какой форме оно будет протекать? А также идет ли речь об организованном отпоре или вспышке недовольства? Можно ли отрезать венедов, которые явились, если это верно, зачинщиками сопротивления, и как это сделать?.. Я отправил к легату седьмого легиона одного за другим троих связных с точными указаниями, что ему делать. Но скорее всего их перехватили по дороге.
— Я буду четвертым?
— Сначала еще раз взвесь, стоит ли тебе браться за это. Все население знает о бунте и постарается навредить римлянам. Люди почуяли возможность поквитаться с ними, да и разбогатеть на грабеже, они оставляют свои деревни и стягиваются к западной части Галлии. Дурной признак, не так ли?
— Что я должен буду передать легату?
— Он должен как можно быстрее отправить в станы колеблющихся племен людей, но не посланцев с большой свитой, а секретных агентов, лучше нестроевых, без выправки, которые будут льстить вожакам и раздавать щедрые обещания всем подряд. Они должны будут проникнуть в варварские города и крепости, чтобы собирать сведения и слать их в Равенну. Сам же легат должен в это время, опираясь на подчиненные ему силы, постараться преподать мятежникам суровый урок.
— И готовиться к возможному нападению? На мой взгляд, твои легионы на Луаре очень легко окружить.
— Я знаю об этом. Все, что я сейчас тебе рассказал, должно быть донесено до молодого Красса в строжайшем секрете. Ты должен будешь в случае необходимости разъяснить ему, что я имел в виду.
— А если у него в лагере не найдется достаточно подходящих для секретного поручения людей, можно мне отправиться к мятежникам?
— Ты решишь это на месте. Но помни, что, продолжая служить, ты принесешь больше пользы, чем геройски погибнув.
Он снова вернулся к карте и продолжил. Он держал за правило не упускать ни малейшей детали в своих объяснениях. Несколько раз мне пришлось возразить, и он с предельным терпением добивался того, чтобы у меня не осталось сомнений в его правоте. После чего он вручил мне составленное письмо к легату и сказал:
— Желаю тебе удачного путешествия, Тит. Последний совет: отпусти бороду, иначе не будешь похож на галла.
В его приемной было полно посетителей, среди которых я узнал несколько высоких лиц Республики и знаменитого Цицерона. Он поднялся при виде меня, чтобы выразить почтение «родственнику императора». Старый лис!
У меня хватило времени только для того, чтобы подготовиться к отъезду. Я освободил рабов, отобранных у Красса, из боязни, как бы их не прибрали снова к рукам мои враги, если мне суждено будет погибнуть. Я дал им денег и нанял повозку, чтобы отправить их на виллу в Кампанию. Когда мы расставались, Котус взял меня за руку и стал упрашивать:
— Возьми меня с собой, хозяин… Куда бы ты ни отправился…
— Ты свободный человек, Котус. Выбирай сам свою судьбу.
— Что мне делать со своей свободой? Возьми меня с собой!
— Мы можем погибнуть.
— Меня хотели сделать гладиатором…
Когда дом совсем опустел, я не мог удержаться от того, чтобы еще раз не обойти опустевшие комнаты. На одной из стен я прочел надпись, которую еще не смыли осенние дожди:
Ничто не вечно,
И солнце, которое так ярко светит,
Должно неизбежно упасть в море.
И луна вдруг исчезнет,
Только что разливавшая сияние по небосводу.
Горький итог моих дней…
Я сижу у огня, зябко поеживаясь, и чувствую себя уютно, точно совенок в глубоком дупле. Люди незаслуженно ругают зиму. А ведь это блаженная пора, когда можно в полной мере насладиться покоем, дать душе отдохнуть после метаний. Вечера тянутся медленно. Дождик мелко бьет по черепицам и напоминает легкие переливы арфы. В эти часы старый Цирций срывается с Черной горы. Цирцием зовут ветер, прилетающий из Нарбонии. Старики-вольки называют его Кирком и обожествляют его. Когда он несется по равнине, земля дрожит, как от топота. Брусья домов стонут под его ударами, ставни трепещут. Более слабые порывы можно заметить по вздрагиванию огня в очаге. Вольки устраивают в главной комнате своего жилища большой очаг. Наблюдать за огнем в таком очаге удобнее, чем в наших римских жаровнях. Языки пламени бегают по поленьям, лижут их, заставляют трескаться, потом угли рассыпаются, пуская снопы искр. Умирающее дерево отдает все запахи, которые когда-то впитало в себя: запах земли, соседних деревьев, папоротников, утренней сырости. Постепенно ствол делается странным образом похожим на казненное человеческое тело, глядя на огонь, кажется, что слышишь его непрерывные жалобы.
Я пишу эти строки при свете масляного светильника. Слова ложатся на листы египетского папируса, желтоватого, цвета песка или львиной шкуры… Строчки снова вызывают во мне образ муравьиной цепочки, струящейся между дюнами, ее движение неуловимо для глаза, но каждый муравей, составляющий ее, покорно несет свое бремя, живет, следуя общему направлению. Так и слова, ложась в строку каждое на свое место, остаются усердными слугами моей мысли.
Непоседливый промокший Котус принес мне пучок тонких тростинок. Он сам старательно точит их и следит, чтобы запас палочек для письма не истощался, ведь я пишу так много. Как заботливая нянька, он не знает, что бы еще такое придумать, чтобы, услужить мне.
Таким же он оставался на протяжении всех наших странствий по Галлии. Его природная веселость, меткие шутки часто заставляли меня забывать об опасностях, которые подстерегали нас. Ничто не могло привести его в уныние, а кроме того, он обладал наблюдательностью и тонкой проницательностью. Мы не раз оказывались обязаны своими жизнями его изобретательности. Его умение ориентироваться спасало нас от ловушек, выводило из самых гиблых мест. Пожалуй, эти опасности были для него равноценны риску, которому он подвергся бы, став гладиатором-мирмийоном[4] на потеху плебсу и банкиру Крассу. Его детские голубые глаза утешали меня, они словно говорили, что мне не за что корить себя, а сам Котус неизменно повторял:
— Я всегда буду там, где ты, хозяин.