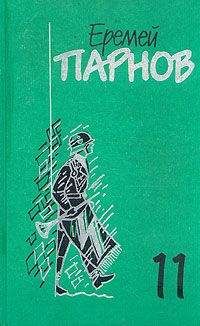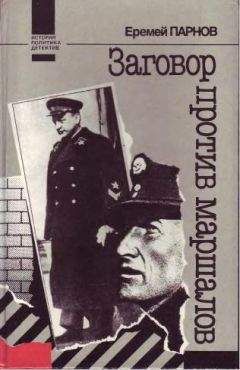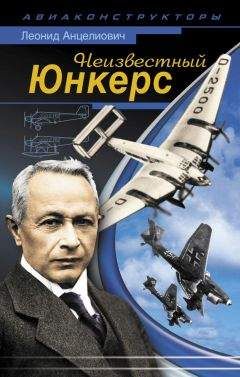Суд над участниками троцкистского объединенного центра проходил под председательством армвоенюриста Ульриха в Октябрьском зале Дома Союзов. Обвинение поддерживал Андрей Януарьевич Вышинский.
Прокурор и судья не только знали, как и положено прокурорам и судьям, обстоятельства дела, но знали и то, как оно будет развиваться, вплоть до вопросов к подсудимым и ответов на эти вопросы, и то, чем закончится. Роли были разучены, в чем лишний раз убедились следователи. Позволить себе отступление от текста, импровизацию" мог один прокурор, обогативший юридическую науку фундаментальным принципом афористического характера: «Признание обвиняемого — царица доказательств». Процесс и строился на одних признаниях, а отсутствие доказательств с лихвой компенсировалось экзальтацией страха и ненависти, раздуваемых по всей стране пропагандистской махиной.
Требуемую тональность задавали редакционные статьи и передовицы «Правды», которые перепечатывались остальными газетами на всех языках народов СССР, передавались по радио. За ежедневной сменой заголовков-лозунгов следили с напряженным вниманием.
19 августа . «Великий гнев великого народа».
20 августа. «Раздавить гадину».
21 августа. «Германские фашисты выгораживают Троцкого».
22 августа. «Троцкий — Зиновьев — Каменев — гестапо».
Динамичная хроника напоминала теорему, которой положено заканчиваться сакраментальной фразой: «Что и требовалось доказать».
Оппозиция предстала в омерзительном облике отростка мирового фашизма. Только закоренелые бесчувственные преступники могли так спокойно, даже с охотой рассказывать о том, как готовили и совершали убийства. Причем с такими подробностями, от которых леденела кровь. И в самом деле: люди ли это? Убили Кирова, готовили покушение на товарища Сталина. Зиновьев признал, что злодеяние было приурочено к открытию Седьмого конгресса Коминтерна. Безграничный цинизм.
«Взбесившихся собак надо расстрелять!» — прозвучало категорическое требование к суду, которому оставались — с перерывами на воскресенье — сутки работы.
В зал допускались по специальным билетам, которые охрана тщательно сверяла с удостоверениями личности. За исключением нескольких руководителей различных ведомств и членов ЦК, места для публики заполнили сотрудники НКВД, не очень занятые текущими делами. Якир, например, сидел рядом с хорошенькой машинисткой, которая то и дело принимала томные позы, строила командарму глазки.
— О чем он с тобой говорил? — спросил ее в перерыве замначальника отделения.
— Ни о чем! Молчал, как в воду опущенный.
— Ну и дура!
Сюрпризы начались в первый же день. На вечернем заседании Рейнгольд показал на Григория Сокольникова. Затем в соучастии с «преступной контрреволюционной группой» были обвинены Пятаков и Угланов, Раковский и Радек. Наконец, Томский, Бухарин, Рыков.
Государственный обвинитель сделал заявление для печати:
«На предыдущих заседаниях некоторые обвиняемые (Каменев, Зиновьев и Рейнгольд) в своих показаниях указывали на Томского, Бухарина, Рыкова, Угланова, Радека, Пятакова, Серебрякова и Сокольникова, как на лиц, причастных в той или иной степени к их преступной контрреволюционной деятельности, за которую обвиняемые по настоящему делу и привлечены сейчас к ответственности. Я считаю необходимым доложить суду, что мною вчера сделано распоряжение о начале расследования этих заявлений обвиняемых в отношении Томского, Рыкова, Бухарина, Угланова, Радека и Пятакова, и в зависимости от результата этого расследования будет Прокуратурой дан законный ход этому делу. Что касается Серебрякова и Сокольникова, то уже сейчас имеющиеся в распоряжении следственных органов данные свидетельствуют о том, что эти лица изобличаются в контрреволюционных преступлениях, в связи с чем Сокольников и Серебряков привлекаются к уголовной ответственности».
С Сокольниковым и Серебряковым (справка на него пошла в КПК в одной сопроводиловке с Примаковым и Путной) особых затруднений не предвиделось. За исключением личного момента, весьма волновавшего прокурора, чья лексика, засоренная канцелярскими штампами, оставляла желать лучшего. Но дело не в ней, тем более что громоподобные обличения воспринимались как верх красноречия. Просто Андрею Януарьевичу давно нравилась соседняя дача на Николиной Горе, а владельцем ее был не кто иной, как Леонид Серебряков. Обрисовалась двойная задача: серебряковский дом взять себе, а свой продать государству. Вторая часть представлялась особенно проблематичной. Словом, у Вышинского появился особый интерес поскорее спровадить Серебрякова на скамью подсудимых.
«Расследовать связи Томского — Бухарина — Рыкова и Пятакова — Радека»,— призвали от лица рабочего класса участники митинга на заводе «Динамо» имени Кирова.
«По-особому прозвучал гудок,— спешно, прямо в номер, передавал репортер.— Это сбор. Никто не ушел за ворота. Пять тысяч лучших рабочих столпились тесной семьей. Лица суровы, брови нахмурены...»
Кировцы, как это и было предусмотрено, потребовали к ответу убийц трибуна революции.
В пожарном порядке, но опять-таки в соответствии с планом выскочили в «Правде» статьи Раковского («Не должно быть никакой пощады») и Пятакова («Беспощадно уничтожить презренных убийц и предателей»). «Троцкистско-зиновьевская фашистская банда и ее гетман — Троцкий» — называлось выступление Ра дека в газете «Известия». Казалось, что все три материала написаны одним пером, в одних и тех же узаконенных на злобу дня выражениях. Но яростные проклятия звучали предсмертным затравленным воплем. И, как ни странно, это дошло, подобно древнему завету: «Помни о смерти». Сам факт публикации как бы намекал на то, что разоблаченные преступники намеренно оклеветали честных людей. Дыма без огня, правда, не бывает, но бдительные органы и беспристрастный советский суд разберутся. Раковский, Радек и Пятаков возмущаются, а Бухарин почему-то отмалчивается. И Рыков, и Томский.
Субботнее утро 22 августа, когда шофер привез газету с заявлением прокурора, Михаил Павлович Томский встретил на даче в Болшево. Еще в мае двадцать девятого он был освобожден от должности председателя ВЦСПС, а год спустя выведен из Политбюро, но оставался кандидатом в составе ЦК, занимая не слишком заметную должность заведующего объединения госиздательств — ОГИЗ.
На службу, куда собирался, он уже не поехал. Под заявлением, где его имя шло первым, была подверстана большая статья. Строчки о «предательском поведении Томского» сразу бросились в глаза. Черными мушками заплясали буковки: «банда», «и сейчас скрывает свои связи»...
Последняя встреча со Сталиным окончательно определила отношения.
— А на меня кому будешь жаловаться? — Сталин, едва зашла речь о постоянных нападках в печати, с нескрываемым удовольствием взял сторону клеветников.— Слыхал басню о лягушке, которую скорпион упросил переправить его на другой берег?.. Ты что, хочешь, чтобы я поступил, как эта глупая лягушка?
Михаил Павлович отпустил машину и позвал сына.
— Я ни в чем не виноват, Юра,— он протянул сложенную газету.— Без партии жить не смогу...
Не он первый, не он последний. Тысячи, сотни тысяч повторят эти слова.
«Нас упрекают за границей, что у нас режим одной партии,— говорил Томский в двадцать втором году на Одиннадцатом партийном съезде.— Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы, у нас одна партия у власти, а остальные в тюрьме».
Свобода, любовь, честь, наконец, сама жизнь — это как бы второстепенно. Главное — партия. Потому и шли на любые унижения бывшие оппозиционеры и уклонисты, что не мыслили жизни вне партии. И давали нужные показания во имя высших интересов ее, как уверяли следователи. И умирали с ее именем на устах. Томский избрал наиболее достойный выход.
«Я обращаюсь к тебе,— писал он последние в жизни строки,— не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу, и вот моя последняя просьба — не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ним не входил, никогда заговоров против партии я не делал...»
«Тов. Сталину»,— крупно начертал на конверте.
Вскоре за дверью оглушительно хлопнул выстрел.