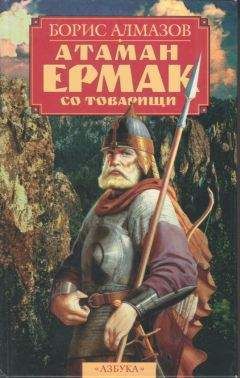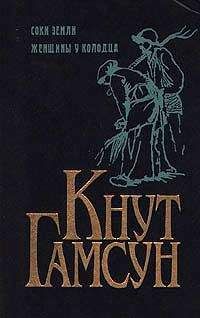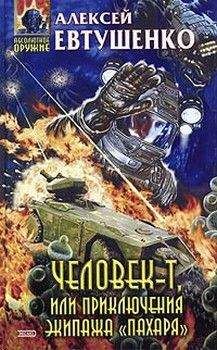Поссевино выпил свое вино и добавил, словно прочитав мысли агента:
— Не надо, мой друг, преувеличивать могущество Ватикана и его друзей, но не следует их и преуменьшать.
Они еще поговорили о том о сем, просмотрели несколько бумаг, принесенных секретарем, а затем Поссевино сказал как бы невзначай:
— Польская кампания завершена. Она остановлена накануне краха, в самом удачном месте. Теперь центр тяжести переместится на юг. Главными действующими лицами станут наследники Золотой Орды.
— Но русские привыкли сражаться с татарами. Последнее время они их повсюду побеждают. После взятия Казани...
Поссевино перебил:
— После взятия Казани прошло три десятка лет... lie нужно опять брать! Рассыпавшись на мелкие ханства, Орда не умерла. Как разрубленная змея, она способна опять срастись и соединиться. Ее нужно только сбрызнуть живой водой — золотом.
— Но последние набеги с юга постоянно оканчивались для татар неудачами...
— Значит, нужно брать направления восточнее, севернее...
— Крым, Волга? — спросил поляк.
— И Сибирское Ханство, — сказал Поссевино. Он омыл пальцы в миске с теплой водой, вытер руки салфеткою. — Как-то в Польше я участвовал в охоте на медведя. Отважный шляхтич посадил зверя на рогатину, но медведь вырвал ее из рук охотника. И бросился, с рогатиной в груди, прямо на нас. Его остановили собаки, которые впились ему в спину, в ноги... Каждая из них не могла справиться с медведем, но их было много. Они отвлекли медведя на себя, и охотник смог нанести решающий удар. Кстати, медвежатина — великолепна... Время охотников, наносивших первый удар, прошло. Сейчас будет некоторая пауза. Сейчас время собак... А затем охотники вернутся, — добавил он, прощаясь.
Улегшись на постель в своей каморке, поляк долго не мог уснуть. Привычный к размышлению мозг позволил ему соотнести события последних месяцев с тем, что так откровенно высказал, явно обрадованный смертью царевича Ивана, папский легат.
Россия, сбросившая власть Золотой Орды, разворачивалась, как молодой лист, вырвавшийся из почки, как сильное молодое растение; она распространяла свои ветви и корни все дальше и дальше. Москва отбивалась на юге и рвалась к морю на западе. Но ее интересы пересекались, скрещивались, сплетались с интересами других стран. Их было много, Россия была одна. Она мешала всем. И страшно мешала католическому Риму.
— Фантастическая страна! — шептал поляк, глядя широко раскрытыми глазами в темноту. — Ее же не было! Ее совсем недавно не было! Была Золотая Орда, с которой Ватикан умел ладить. Мир был стабилен. И вдруг — Орды нет. А эта голодная, окровавленная внутренними распрями, грязная и непонятная страна поднимается на востоке Европы. Третий десяток лет идет война в Ливонии. Лучшие войска Европы умирают под стенами ее крепостей. А из России идут и идут новые и новые полчища и виснут на этих войсках. Идут народы, которые совсем недавно враждовали между собой, идут, не понимая языка друг друга, однако и теперь еще на вопрос: «кто вы?» >— отвечают совершенно по-разному. Но на вопрос: «чьи вы?» — одинаково: «русские»! Идут черкасы и севрюки, чиганаки и буртасы, черемиса и касимовцы, темниковцы... — и все кричат: «Мы Московского Царя подданные — русские!»
Он думал о том, что цепь случайностей, крамол, измен, смертей, происходивших в этой кипящей темноте, именуемой Русь Московская, не так уж случайна. Как и неожиданная смерть царевича Ивана.
Все непредсказуемо, все случайно, но почему-то выстраивается в стройную систему, за которой чувствуется направляющая мысль.
— Чья? — шептал поляк. — Ватикана? Этого не может быть! Можно допустить, что Крым, получающий поддержку в Риме, ногайцы — вассалы Крыма, поднимающаяся по Волге на всеобщее восстание против Москвы черемиса — это от Ватикана, но царевич? Почему отец убивает сына — единственную надежду этой страны? Такое подстроить невозможно! Так, может быть, здесь рука сатаны?
Поляку стало страшно. Он долго шептал молитвы.
— Боже, вразуми, кому мы служим? Не может ли быть со мною как с Павлом, который гнал Тебя, Господи, но обратился? Что будет со мной, что будет с Польшей, если мы никак не можем разбить этих схизматов! Почему?
Он забылся сном, когда серенький рассвет зимнего утра засветил в слюдяное окошко. Часа через два ему постучали в дверь.
Наскоро умывшись, он поспешил к легату, принимаясь за обычные хлопоты: нужно было готовить мир — польско-литовское вторжение захлебнулось. Нужно было готовить войну — на юге и на востоке. На смену католикам шли давние враги России — мусульмане.
Казаки стояли в Замоскворечье, напротив Китай-города, в тесно застроенном посаде. Разбитные и веселые стрельцы, те, что под Псков не ходили, а сторожили стены Москвы, промышляли всем, чем могли, в том числе и пускали на постой воинских людей. Поэтому в каждом дворе стояли три-четыре чужих коня, в доме спали вповалку: на лавках, на полатях, на полу, под овчинными тулупами храпели и архангельские, владимирские мужики, и донские казаки.
Ермак же поселился чуть дальше у своего кума — начальника городовой казачьей сотни. Было здесь то, что не вышло в его собственной судьбе. Была семья, где он оттаивал душой.
Просыпался Ермак рано и в тишине крохотной каморки, где всего и помещалась его постель да киот в углу у оконца, спокойно обдумывал предстоящий день. А обдумывать было что.
Воевода Хворостинин отослал его в Москву по приказу царевича. Ермак догадывался, к чему дело идет, и, оставив сотню своих донцов в Замоскворечье, сам спешно явился в Александровскую слободу.
Царевич Иван принял их в малом покое, где принимал воинских людей. Атаманы и командиры татарских конников сидели на лавках и слушали, как черноглазый рослый, стройный и очень подвижный царевич говорит о войне, о том, как можно переломить судьбу и вырвать победу.
— Не стоять! Не стоять! — повторял он. — Неча за стены цепляться! Наступать! Изматывать набегами! Как стал у крепости, так завяз. — Он не сидел на месте, ходил, пристукивая серебряными подковками красных сафьяновых сапог.
— Чего он нас учит? — шепнул по-татарски Ермаку на ухо служилый татарин Аксак. — Мы всегда так воюем.
— Это он себя уговаривает! — также по-татарски ответил Ермак. А про себя подумал: «Не даст Царь войск для такой войны. Да и взять ему их неоткуда...»
— Беда на нас с трех сторон катит, — говорил царевич, и румянец играл у него на впалых щеках. — Стефан под Псковом завяз, теперь шведы напирать станут. Промеж себя они навряд ли договорятся. Каждый на свою силу надеется. И тут у нас война давно идет — отстоимся. На степи неспокойно. Крымцы да ногайцы шевелятся. Но и здесь мы, Бог даст, отмахаемся... А вот совсем новенькое: Сибирские Орды из-за Камня что ни месяц набеги творят. И метят они с этого боку на Москву идти. Потому и зашевелилась вся Волга. Не сегодня завтра черемиса забунтует! Вот и будет нам вторая Казань! Там сейчас такое, что хоть обратно штурмом бери. Потому будет великая помощь от казаков, ежели они на Волгу ногайцев не допустят, крымцев не допустят...
Атаманы молчали, но каждый подумал про себя: «Станут казаки ногайцев да крымцев разорять по цареву слову, а случись замириться Царю с ногайцами или с крымцами, тех же казаков ворами обзовут да и казнят без милости. Не первый раз так было».
Ермак все, о чем царевич говорил, знал — да и атаманы с татарскими начальниками обо всем сто раз переговорили. Потому слушал вполслуха. Смотрел, как горбоносый смуглый царевич на отца своего похож, на Ивана. Вот таким Иван был под Казанью, когда казалось — ничто более Русь сокрушить не сможет.
А вон как вышло — кругом война!
За день до встречи у царевича видел Ермак и Царя Ивана. И едва узнал его. От прежнего красавца ничего не осталось. Старец, истинно старец, — а ведь они с Ермаком почти ровесники.
Царь был страшен: словно усохшая голова помещалась на широких плечах, будто шеи вовсе не было; впалая грудь и косое брюхо, подпиравшее кафтан, будто нищий и богатей, будто старец мудрый и чревоугодник похабный уживались в одном теле. И лицо Царя Ивана тоже было будто из разных частей составлено: осанисто, гордо нес Царь седую расчесанную бороду, но загибалась она как нос у сапога — кверху, выдавая половецкую кровь. Надменно были поджаты тонкие губы, но серые глаза бегали как мыши, обшаривали каждого встречного. И прятался в этих глазах — может, страх, а может — и безумие.
Был Царь в подряснике, с тяжелым наперсным крестом на груди, но на плечах у него посверкивал золотым шитьем кафтан, да мела полы соболья шуба.
Пристукивая посохом с окованным наконечником, чинно прошел Царь мимо Ермака, а как стал на ступени подыматься, тут его под руки крепкие слуги подхватили: видать, сил у Царя было немного. А может, чванился перед степняками...
«Не даст Иван царевичу войск!» — подумалось тогда Ермаку. Так и сказал он атаманам и служилым татарам, когда после угощения в царских покоях поехали они из Александровской слободы в Москву. И воинские люди все с Ермаком согласились. «Не даст! За себя Царь боится. Царевич горяч. Сегодня на Батория пойдет, а завтра?» Промолчали воинские люди, были они все немолоды, всего насмотрелись, и трудно их было удивить и распрей внутри семьи, и любой изменой.