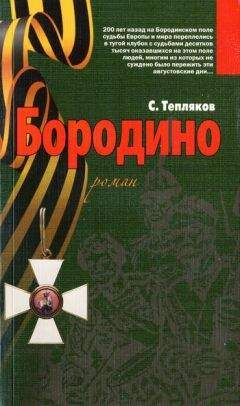Ознакомительная версия.
Гарден на мгновение остолбенел.
– Ну теперь попляшем! – вдруг закричал рядом Ла Булаэр. – Добрый вечер!
В этот же миг русские выстрелили. Гарден зажмурился и не сразу открыл глаза. Ла Булаэр лежал у его ног – он был убит наповал. «Печать смерти… Печать смерти… Надо посмотреть»… – подумал Гарден, сам тут же удивляясь нелепости этого желания. Он быстро оглянулся – кроме него из всей роты оставались на ногах ещё только семь человек, как и Гарден, озиравшихся вокруг.
– Придите в себя, лейтенант! – полковник Жан Луи Шаррьер толкнул Гардена в плечо, быстро прошёл вперёд, снимая с головы кивер, цепляя его на острие шпаги и поднимая над головой, чтобы все знали, где командир – так французы ходили в атаку ещё со времён революции.
– Да здравствует император! – вскричал полковник. – Вперёд, 57-й!
– ААААААААААААААААААА! – взревели вдруг те, кто ещё не был убит, и бросились вперёд. «АААААААААААААА!» – взревел вместе с ними Гарден и тоже бросился вперёд. Это было последнее, что он помнил. Пришёл в себя Гарден уже на редуте, когда схватка кончилась. Гарден с удивлением посмотрел на свою шпагу – она была в чьей-то крови.
– Мой лейтенант, полковник зовёт вас! – подбежал к Гардену какой-то сержант.
Шаррьер сидел на зарядном ящике у входа в редут. Нога полковника была в крови, однако Шаррьер не обращал на это внимания.
– Гарден, кроме вас офицеров на ногах больше нет, командуйте, чтобы редут подготовили к обороне. Русские так просто нам его не оставят… Жаль, что меня зацепило, но редут взят!
И Шаррьер довольно захохотал.
Когда французы взяли Шевардинский редут, было уже около семи вечера. До темноты в этот осенний день оставались минуты, но Горчаков, то ли взбешённый, что редут потерян, как ему казалось, слишком легко, а то ли просто увлекшись, вызвал резервы. Хотя понятно было, что редут свою задачу – не допустить французов на поле сразу – выполнил, но резервы были Горчакову Багратионом даны. Пришедшая пехота пошла в атаку, впереди Сибирского и Малороссийского гренадерских полков шли священники. По флангам редута сходилась кавалерия. Темнело всё больше, так что бились при свете горящей деревни Шевардино. Русские генералы утверждали потом, что редут был ещё трижды отбит у французов и только после этого оставлен им. Французы говорили, что ни разу не отдали русским то, что 57-й полк взял своей отчаянной атакой. Так или иначе, но поздним вечером всё, наконец, кончилось. 6-й батальон 57-го полка занял курган и провёл там ночь, среди стонов раненых людей и лошадей. Французы обшаривали карманы и ранцы мертвецов – как своих, так и тем более русских, у которых они брали водку и «русские бисквиты» (так французы называли наши армейские сухари).
В это же время Кутузов, убедясь, что ночного прорыва французов на поле не будет, поехал в Татариново, где для него была приготовлена изба. Карл Толь еще днём сказал Кутузову, что кроки готовы – следовало разметить на них войска. Однако сделать это можно было лишь зная, чем кончится схватка за Шевардино, далеко ли после неё продвинутся французы. Упорство Горчакова Кутузов одобрял – если бы не оно, французы могли бы на хвосте отступающего отряда Горчакова въехать в русские порядки, и ещё неизвестно, чем бы мог обернуться такой бой. «В конце концов, и в темноте можно отлично друг друга убивать», – подумал Кутузов.
В избе Толь выложил на стол кроки – большую карту, начерченную от руки на нескольких склеенных листах. Кутузов уже всё обдумал: на случай, если французы решат обойти его правый фланг, ещё с 22 августа строились укрепления у деревни Маслово. Лес за Масловскими укреплениями заполняли егерские полки, а далее от них шли линии войск: в первой линии (кор-де-баталь), плечом к плечу – 2-й корпус Багговута, 4-й корпус Остерман-Толстого, 6-й корпус Дохтурова, 7-й корпус Раевского, и 8-й корпус Бороздина у деревни Семёновское. Во второй линии стояли кавалерийские корпуса. Ещё глубже, позади правого фланга стояла конница Уварова и Платова, за центром – гвардия, а за левым флангом – масса артиллерии. Кутузов по рассказам знал, что при Прейсиш-Эйлау артиллерийским огнём был расстрелян весь корпус Ожеро, и хоть не слишком этому верил, но всё же допускал. Центром позиции выходила деревня Горки, к которой справа примыкал 4-й корпус, а слева – 6-й. (На кроках нет укрепления, потом названного батареей Раевского – решение строить его и сделать центром позиции было принято позже).
Ожидая от Наполеона сюрприза на своем правом фланге, Кутузов решил и ему сделать ответный подарочек: в нижнем левом углу карты, где была нарисована деревня Утица, приказал обозначить впереди неё 3-й пехотный корпус Тучкова, а позади – Московскую военную силу. Возле них своей рукой Кутузов написал: «Расположен скрытно». Толю, который наблюдал за всем этим со священным трепетом, Кутузов пояснил:
– Когда неприятель исчерпает свои силы, я пущу ему скрытое войско в тыл!
Толь тихо засмеялся.
– Отведи Тучкова на правый фланг сегодня же… – распорядился Кутузов. Толь тут же откланялся и вышел.
Карл Федорович Толь был человек не злой и не глупый. Но в 12-м году было ему уже за шестьдесят, а положения, которого, по его мнению, он заслуживал всегда, он добился впервые. С Суворовым в Швейцарии, с Кутузовым в 1805 году, на турецких войнах он был один из многих. И вот только нынче выдвинулся в главные люди армии. Он торопился насладиться властью, привычки к которой у него не было совершенно. Поэтому он не упускал случая показать всем, что она – власть – у него есть.
Алексей Ермолов, в те дни – начальник штаба 1-й армии, позже написал о Толе: «офицер отличных дарований, способный со временем оказать большие заслуги; но смирять надо чрезмерное его самолюбие, и начальник его не должен быть слабым, дабы он не сделался излишне сильным. Он (…) столько привязан к своему мнению, что иногда вопреки здравому смыслу не признаёт самых здравых возражений». Вторая часть этого наблюдения подтвердилась 25 августа, когда решалось, какое укрепление строить на кургане в центре русской позиции. А сейчас, в полном соответствии с первой частью ермоловской характеристики, получив распоряжение Кутузова, Толь со своей свитой (его в те дни окружало множество молодых офицеров), минуя Барклая, поехал прямо в 3-й корпус, и, найдя Тучкова, приказал ему следовать за собой на самый край левого фланга. Барклай узнал об этом позже, случайно, только когда, объезжая войска, увидел, что масса войск снимается из его боевого порядка и велел спросить, на каком основании это делается.
Узнав, что это приказал Кутузов, а всем распоряжается Толь, Барклай в который уже раз сделал каменное лицо. Вид его допускал толкование, что он знал о намерениях Кутузова и перевод 3-го корпуса согласован с главнокомандующим 1-й армии. На деле ничего он не знал и не удивлялся этому – это было всего лишь одно из многочисленных его унижений последних дней. Да и не самое сильное, – думал теперь Барклай.
Ещё утром пришёл ему рескрипт императора Александра об удалении его с поста военного министра. «Нахожу я ваши занятия при армии столь важными и многотрудными, что полагаю исправление должности военного министра невозможным по совершенному недостатку времени, а равномерно по удалению, в котором вы находитесь от меня…» – писал царь. Но Барклай знал, что не расстояния тому причиной. Багратион весь поход писал всем о Барклае злобные письма. Но этот хоть по причине грузинской горячности своего мнения от Барклая не скрывал – а сколько было тех, кто интригуя за спиной, улыбался ему в лицо. Барклай уже давно не мог отделаться от мысли, что интригуют все, и ловил себя на том, что как-то особо взглядывает даже на тех, кто по мизерности должности интриговать не может – вот хоть на своих адъютантов. Барклай понимал, что он просто безмерно устал.
Лошадь шла медленно, Барклай не торопил её. Он не спешил в отведённую для него избу потому, что знал, что ему предстоит там делать. Ещё утром, после получения рескрипта от царя, он решил написать прошение об увольнении от службы. В его жизни не было счастья: после смерти матери он воспитывался у родственников; потом женился на кузине, толстой и некрасивой, не по любви, а по жизненному долгу, для поддержки людского круговорота на земле. Но рождавшиеся дети умирали один за другим – остался только один мальчик, Макс. Ни состояния, ни деревень не было. Только в службе и была его радость, а война – его чистое упоительное счастье. Лишиться службы было то же, что лишиться жизни. Барклай слышал о людях, которые кончают самоубийством, но сам не мог – Господь не принимал душу самоубийц (а Барклай хотел хоть там, на небесах, встретиться с матерью, которую так рано потерял, и которую так любил). Но на этот счёт был у Барклая свой план, который при всей его ужасности наполнял душу генерала покоем и радостью.
Позже, добравшись до избы и сделав всё, что могло оттянуть написание прошения, Барклай всё же заставил себя сесть за стол и написать самое проклятое письмо в своей жизни. Он писал его сам, хотя правая рука, изувеченная в 1807 году в сражении при Прейсиш-Эйлау, с тех пор плохо слушалась, буквы приходилось писать больше обычных, но и тогда их было трудно разобрать. Однако не хватало духу диктовать это адъютанту и знать, что весть разлетится по лагерю тотчас после того, как адъютант выйдет из избы. Переходить в Швецию по льду Ботнического залива в 1809 году – хватало, а диктовать – нет.
Ознакомительная версия.